Дезертира звали Дейн Кларк. Он был маленький и щуплый, с острыми глазками. В конце фильма он прятался в траншее — обросший острой щетиной, торчащей, как у крыс, загнанный и отчаявшийся. Мне было тогда восемь лет, но я знал, что он уже отчаялся во всем. Немецкий офицер с пистолетом в руке, улыбаясь, ждал, когда истекут шестьдесят секунд, данные беглецу. Громкоговоритель над упаковочной мастерской отсчитывал секунды, будто внутри его билось огромное сердце, а Дейн Кларк, уже пораженный свинцовой пулей, натягивал надетую на пальцы резиновую тетиву и посылал в сердце преследователя золотую смертоносную стрелу, подаренную ему любимой.
Момент был настолько захватывающим, что человек, крутивший пленку с титрами в маленьком кинопроекторе, забыл о своих обязанностях. Сбоку еще мигала надпись от руки закругленными буквами: «Я даю вам минуту, сержант! Одну минуту!», когда на экране уже появились слова: «The End» и побежали цифры семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Зажегся свет, и люди, закутанные в куртки и пальто, начали вставать, зная, что впереди у них пугающая дорога домой. Встали и австралийские солдаты в толстых шинелях и грубых ботинках, чтобы вернуться в свой лагерь на краю деревни. Помчались домой, спасаясь от страха, и мы с сестрой.
С тех пор Дейн Кларк куда-то исчез и больше не попадался мне на глаза. Иногда в дождливые дни я сижу в типографии, отгородившись от трех рабочих, которые не скрывают своей неприязни ко мне, и перебираю связки старых журналов с пожелтевшими фотографиями из фильмов, которые я видел в детстве. Я ищу его и не нахожу. Красотки в купальных юбочках, которые им явно коротки, актеры в фетровых шляпах и расклешенных брюках, волочащихся по земле, роскошные женщины в световых ореолах, огромные «форды» и «паккарды» тех дней предстают предо мной на страницах журналов, которые заботливо разложил по пачкам на вечное хранение мой дядя. И смех трех рабочих — двух пожилых и одного молодого — доносится до меня от дряхлого печатного станка.
II
По вторникам в деревне крутили кино. Зимой — в пустой упаковочной мастерской, летом — на школьной спортплощадке. Киношники приезжали днем, чтобы подготовить все для праздника. Мы окружали их толпой и, не выпуская портфелей из рук, следили за работой.
Были это отец и сын. В будни они объезжали деревни, показывая свои пленки, а в субботу крутили их в соседнем местечке. Ходили слухи, будто в свободные вечера, сидя вдвоем в своем холостяцком доме, в темноте, где стрекотал лишь проектор, они сами смотрят свои драгоценные ленты.
Дело свое они знали. Умело и ловко снимали ящики с грузовичка и деталь за деталью собирали свой черный тяжелый проектор; вытаскивали и перематывали пленки, катушку за катушкой; протягивали провода к генератору, работавшему на солярке; вкручивали лампы; устанавливали громкоговорители; ограждали площадку проволокой и вешали на стену школы десять простынь, служивших экраном. Если мы помогали им, наградой нам служили куски целлулоидной пленки, отрезанные при перемотке.
К вечеру площадка была полна скамеек и охапок сена. Эфраим-отец (Эфраимом звали сына, но имени отца мы не знали, и для нас он тоже был Эфраим) стоял за кассой, а сын трудился возле черного аппарата и жестяного проектора для ленты с титрами. Еще немного и две полоски света связывали глазки проекторов с экраном из простынь, и перед нами открывался мир чудес. Маргарет О’Брайен рыдала, коротышка Батч Дженкинс кривил изрешеченное лицо, Алан Лэд стоял во главе взбунтовавшихся матросов на палубе, а Хард Хетфилд рассматривал свой собственный портрет. Летние светлячки, как искры, проносились в темноте, дети дремали, примостившись возле родителей, и Эпштейн, чиновник мандатных властей, смеялся раньше других тому, что слышал по динамику, прежде чем все успевали прочесть титры на экране. Иногда Эфраим-отец путал части, и партизаны спасали свою бесстрашную подругу Зою с виселицы за полчаса до того, как фашисты вели ее туда. Но все прощалось, ведь кино по природе своей требует уступок. И так каждый вторник. Как-то мой друг Ури раздобыл у Эфраима-сына моток черно-белой целлулоидной пленки — тридцать метров с Джоэлем Макариа, скачущим на лошади, и бандой индейцев, совершающих набег, — все это за полмешка астраханских яблок [21] Сорт яблок, завезенный из России и культивировавшийся в 40-х—50-х годах в Израиле.
. После уроков мы часами, кадр за кадром, разглядывали его сокровище, и боевые кличи краснокожих доносились до нас из маленьких рамок вместе с топотом лошадей и хлопками выстрелов. Кино, о Господи, кино.
Читать дальше
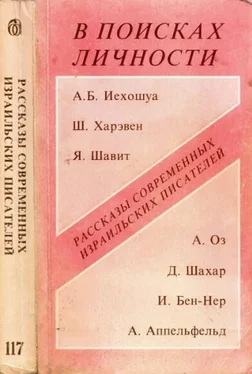
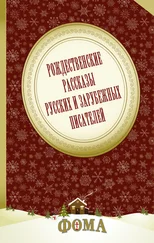
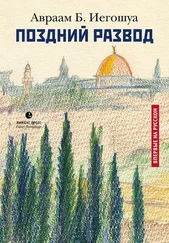





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


