Хорошие люди в нашей деревне. Ее мужу и детям был выделен дом. Может, чтобы хоть как-то скрасить им жизнь, а может, чтобы не вышла эта история за круг кипарисов, запорошенных пылью. Чтобы еще как-нибудь загладить вину, правление решило, чтобы к ним на дом ходила женщина из йеменских евреев — убирать, готовить обед, стирать белье. Так наша деревня пыталась хотя бы немного поправить то, что наделали мы. Как в истории с Барухом Зрубавелом, который переспал с девушкой из маабарот [19] Временные лагеря для репатриантов в начале пятидесятых годов.
, она забеременела, и пришлось улещивать родителей, чтобы те не подняли шума, и заботиться обо всем, что касается аборта.
Сколько можно было выносить взгляды односельчан, их молчание: знать, что они все знают о нас? Обстановка в деревне была тяжелой, и я, скрепя сердце, ради нее, поддался на уговоры членов правления и переехал в город. Мы поселились в Хадере. Я начал работать на упаковочной фабрике, где делали ящики для цитрусовых. Ну и годик отбыли мы там! Я задыхался. Детей нам Бог не дал, да и не стоит об этом. Дышать становилось трудней и трудней. Я не могу жить нигде, кроме деревни, даже если она превратилась для меня в сущий ад. Не могу. Меня разбирает тоска по деревне, ее тянет к детям, и забились уже в ней первые пульсы раскаяния, и вроде бы нечем нам больше помочь друг другу, и наше короткое счастье кончилось раз и навсегда.
И вот я надел свой свадебный наряд, взял отпуск и прямо с утра явился в правление. Я взмолился и был услышан. Я не мастер на длинные речи, но на этот раз слова нашлись сами собой, и члены правления пошли мне навстречу. Ведь все же я свой, и они мне свои. Прошел ровно год, и мы вернулись в деревню, готовые ко всему, что нас ждет — взглядам, осуждению, насмешкам и одиночеству. Я не могу жить без этой деревни. Не могу — и все тут. Старой отцовской косой я расчистил сад вокруг запустелого дома, где жили родители. Топором разбил деревянный барак, оклеенный толем, храм наших страстей. Заштукатурил трещины в стенах дома. И вот я хозяин — и дом у меня, и надел, и жена, и живу я в старой доброй родной деревне. Постепенно, будто невзначай, деревня стала возвращать мне покой, улеглись понемногу тревоги, стало легче дышать.
За все это я благодарен деревне и ее обитателям. Невидимая нить связывает нас, членов одной семьи — добрых и злых, праведных и грешных, и чисто в семье и светло. Я благодарен за то, что они простили меня и разрешили вернуться. Мне дорог каждый. Я сижу в большом кинозале, где крыша из черепицы и дует из окон, и не смотрю на экран. В полумраке я вглядываюсь в лица односельчан. Молодые и пожилые. Родившие детей и те, кто родил их самих. Все как на подбор. Брови насуплены — позади тяжелый рабочий день. Рубахи из грубой ткани. Морщинистые затылки. Виски не подстрижены. В больших ладонях покой. Во взглядах степенное любопытство. Иногда я останавливаюсь посреди улицы и смотрю, смотрю до тех пор, пока они не замечают мой взгляд. Я пытаюсь вобрать в себя то, что составляет их суть, но, к сожалению, мне это не удается. Сила, идущая от земли. Цвета тишины. Гармония безмятежности. Я верю в них. Только в них. На них вся надежда.
III
С тех пор, как мы вернулись, я почти не выезжаю из деревни. Соблазны большого света меня не влекут. Я знаю — мир идет к гибели. С каким-то болезненным интересом я смакую газеты — все, которые попадаются мне на глаза, от корки до корки. Я читаю и книги, читаю одну за другой, целиком, не упуская ни строчки, и от этого кажусь односельчанам еще более странным. Верзила, вечно в измятых узких обносках, из которых будто бы прет наружу животная сила. Вид неприглядный. И в то же время вроде бы кладезь каких-то премудростей, извлеченных из сотен и тысяч прочитанных книг. Но мне никогда не извлечь и крупицы из тех запасов, которые накопились в моей тяжелой заскорузлой башке. В разговорах с односельчанами я с трудом подбираю слова, фразы выходят короткими, односложными. Стоит кому-то из них обратиться ко мне с самым пустячным делом или просто так, как у меня в голове начинается монотонный глухой перестук. Так волнует меня осуществимость контакта. Если кто-нибудь просит меня помочь подоить коров или подсобить при постройке сарая, я тут же бросаю все и иду.
Я не речист, но все знают, что за мной водится странность читать и писать на трех языках, кроме иврита. Английский, французский и немецкий я выучил сам. Я перемалывал целые тома; строку за строкой, пропустив сквозь словарь, ссыпал в бездонную житницу, и чужие слова, которые мне до сих пор не привелось ни разу произнести вслух, отпечатывались в мозгу, как в застывающем растворе. Побуквенно, беззвучно. Я понимаю, что задал задачу односельчанам. Как относиться ко мне — смотреть свысока или благоговеть? Ведь наружу-то, на-гора я из своих сокровищ никогда выдавать не умел.
Читать дальше
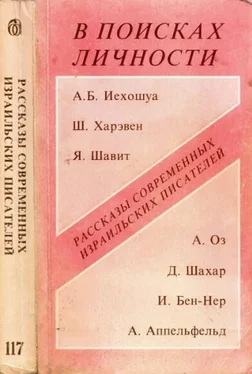
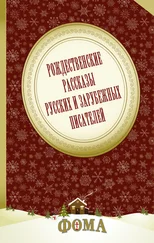
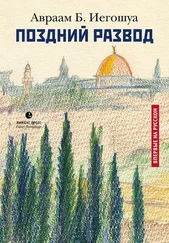





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


