Через несколько месяцев — местечко наше небольшое, а я тогда еще не знал, что такое стыд — все выплывает наружу. Люди перешептываются, потом начинают говорить открыто. Что-то меняется во взгляде отца, он поглядывает на меня испытующе, с опаской. Никто не пытается поговорить со мной. Но я никого не виню. Наверное, члены правления предпочли не вмешиваться в это дело, сочтя его слишком личным. Да и я казался им каким-то чудным, а она была в их глазах блудницей-иноплеменницей.
От всего этого — от усмешек, шепотка, косых взглядов ее муж Бено пытается покончить с собой. В заброшенном молодежном клубе на кипах газет, которые собираются для армии и никогда не отсылаются туда, Бено со вскрытыми венами находит его сын Ури. Очки аккуратно положены в верхний карман пиджака, галстук на месте, губы плотно сжаты, как будто силой последнего озарения он осознал, как плохо ему жилось, и, стало быть, то, что он делает — необходимый, единственный выход. Его жена в это время со мной. Ребенок, как взрослый, находит нас и зовет на помощь меня. Меня?! Да, меня.
Я беру ее мужа на руки, обмякший, почти ничего не весящий тюк. Я несу его в поликлинику, и кровь из его перерезанных вен капает на меня, на траву, на дорогу. Против воли его привели в чувство, а я просидел всю ночь в давно облюбованном потаенном местечке на кладбище, чтобы не попадаться на глаза отцу. Наутро я вернулся домой и, потупясь, попросил отца продать своих нескольких коров и отпустить меня в Хайфу. В те дни бастовали моряки торгового флота, и владельцы кораблей искали им замену, чтобы суда не простаивали. Не обращая внимания на тяжелые взгляды бастующих моряков, я нанялся на корабль.
Я убегал. Хотел все забыть. Мучаться забыванием. Убежать. Но, когда мы подходили к Кипру, тоска взяла верх — тоска по отцу, по односельчанам, по родине, по Юте, по ее мужу, который остался жить со своим позором, по растрескавшимся деревенским дорогам, по виноградникам. Все мечты повидать свет, все надежды забыть о прошлом рассеялись, как дым. Как ребенок, который не может шагу ступить без материнского подола, я сошел на берег в Фамагусте. Денег у меня не было, и из консульства послали телеграмму на адрес правления нашей деревни. Не прошло и дня, как был получен ответ: правление оплатит мой обратный проезд, и в тот же вечер я был на борту корабля, который вез в Хайфу стадо племенных югославских коров. А еще через сутки я вернулся в деревню. Полями, украдкой, я пробрался домой, и там отец рассказал мне, что Бено остался в живых. До сих пор на затылке я чувствую взгляд. Это смотрит на меня мой отец.
Полгода, а может и больше, мы избегаем встреч, чтобы не прорвалось снова все то, с чем нам не совладать. Она почти не выходит из дома, а когда выходит, то будто на общий суд. Она чужая, поэтому крест, который она несет, еще тяжелее. Каждый день, закончив работу в положенный час, ее муж забирает сына и дочь и вместе с падшей женой, их матерью, запирается в стенах барака. И так до тех пор, пока я не выдержал. В одну из ночей я прокрался в заросли чертополоха, в котором ребенок мог бы прятаться, не сгибаясь. Я стоял на коленях против ее окна, освещенного керосиновой лампой, и ждал. Среди бурьяна. Всю ночь. Одежда промокла от росы, а внутри было жарко от безумной тоски по теплу ее тела. И так всю ночь.
Ни одному из нас не было суждено забыть, и наутро все прорвалось и накатилось на нас с новой силой. Ее муж вышел на улицу, и увидел меня, и прошел мимо, будто не видел. Потом вышла она, и увидела меня, и побледнела, и не могла сдвинуться с места. Так мы стояли друг против друга, а с дороги, проходящей за чертополохом, на нас смотрели односельчане.
Потом все стало явным, и ее муж Бено смирился. Мы не считались ни с чем. Ночи напролет она проводила в моем бараке во дворе за домом родителей. Я старался не попадаться на глаза отцу, а она улучала минуту, чтобы повидать детей, пока отец не успевал забрать их из детского сада и из школы. Мужу сочувствовали, меня не винили — ведь я был своим и в хорошем, и в плохом, да и некая придурь водилась за мною всегда. Другое дело она — ее считали виновной во всем, хотя никто не говорил об этом открыто. Когда умер отец, а умер он от горя и от тяжелой болезни, члены правления долго увещевали Бено, пока он не согласился дать ей развод. Потом почти без промедления нас поженили — в Хайфе, во дворе раввината, свидетели с улицы и один член правления. Я в белой рубахе и в полосатых отцовских брюках, перешитых на скорую руку и до невыносимости тесных. Она — чужая, живущая среди чужих, в белом платье с букетом роз, и нет у нее никого, кроме меня. В грязной гостинице на улице Пророков, отдав мне свое тело, жена моя Юта начала плакать — горько, безудержно и протяжно, как телка под ножом мясника. Она проплакала всю ночь, и тогда в первый раз я увидал ее слезы. Вот она плачет, а я мну ее тело, не отпускаю, не даю передышки, потому что сил во мне столько же, сколько злости — на нее, на себя, на эти рыдания.
Читать дальше
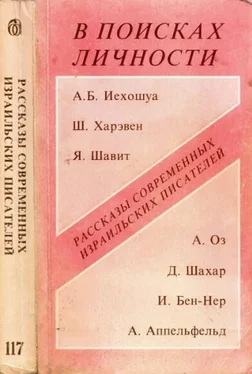
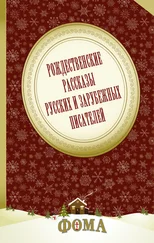
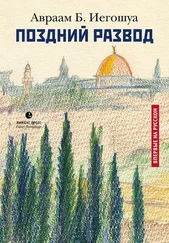





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


