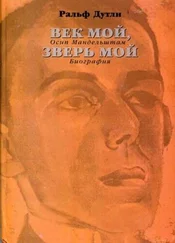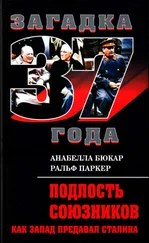Да, они это знали. И художник тоже знал все дороги этого города, сколько раз по ночам, когда ему не спалось, после мучительных часов перед неуступчивым холстом, один на один с болью в животе, он гигантскими шагами мерял их, избегая бульваров, проносясь темными проулками, чтобы исчерпать себя, опустошить сердце от всякой живописи. Чтобы затем вернуться, запыхавшись, домой и без сил упасть на матрас.
После операции Мари-Берта сидела у его постели. Бесконечная поездка в катафалке измучила ее. Сколько времени прошло, целый день, два дня? Теперь ее голова склонилась набок, на кровать Сутина, примостилась на простыне у его ног. Мари-Берта крепко спала. Когда она испуганно вскакивает, художник уже мертв.
Его прооперировали ночью в клинике Лиотэ в 16-м округе. Никто не помнит о прибытии катафалка. Не существует никаких письменных документов, подтверждающих операцию. Никто не знает, состоялась ли она. Во время оккупации она означала риск, и не только медицинский. Тайная операция на невидимом художнике.
Личности обоих похоронщиков и водителей катафалка не установлены. Они исчезли. Художник умер 9 августа 1943 года в шесть часов утра, не приходя в сознание. О его смерти было заявлено 11 августа 1943 года в 10 часов утра в ратуше 16-го округа господином Рене Маженом, сорока лет, служащим, улица Мениль, 3, Париж. Акт о смерти № 1799. Заявление не было сделано раньше, чтобы исключить проверку. Оккупантам незачем знать, что невидимый художник все-таки ускользнул от них. Во всяком случае, не был доставлен ни на один из железнодорожных вокзалов, откуда следовали поезда на восток.
Мари-Берта вызвала в клинику венгерского фотографа Рожи Андре, иначе Розу Кляйн, которая сделала портреты многих художников Монпарнаса. Нужно торопиться, мы должные его быстро увезти.
1. Фотография в пижаме в мелкую полоску, лицо небритое, руки сложены вместе, пальцы скрещены, букет гладиолусов на простыне.
2. Фотография в пижаме, крупным планом небритое лицо, волосы не причесаны.
3. Фотография в черном костюме, в туфлях, букет гладиолусов на ногах.
4. Фотография в черном костюме, с галстуком, крупным планом бритое лицо, волосы причесаны.
Пальцы было уже не отмыть, на них остались неизгладимые отметины. Краска, окаймляющая ногти, глубоко въелась в кожу и ногтевое ложе. Его руки испачканы навсегда. Красочное огненное клеймо для белого запредельного. Больше никакой чистоты, никогда. Чтобы все сразу видели, кем он был, отсутствующий Бог – прежде всего. Пусть морщит нос при виде грязи. Джером Клейн писал в 1936 году в «Нью-Йорк пост»: Ван Гог обнажил сердце. Сутин обнажает свои внутренности.
Художник обнажил на смертном одре свои навеки цветные пальцы. Маленькая месть доктору Готту.
Похороны состоятся через два дня после смерти художника. В среду, 11 августа 1943 года, в 14 часов. Даже сообщение о смерти – попытка сбить с толку. В последний момент Мари-Берта в уже отпечатанном тексте зачеркнула «Пер-Лашез» и от руки надписала «Монпарнас». Еще одно средство одурачить оккупантов и их шпионов, замести следы, утаить похороны от посторонних. Присутствуют: Пабло Пикассо, Жан Кокто, Макс Жакоб. И две женщины: Герда Грот-Михаэлис и Мари-Берта Оранш. Первоначально могила была анонимной, что вполне подходило для невидимого художника. Только после войны она получит имя, в неправильном написании: Chaïme Soutine , вместо Chaim Soutine .
Это был северный вход – то, что ясно видела душа художника сквозь оконца овощного фургона. Да, они прибыли со стороны бульвара Эдгар-Кине. Когда подняли бело-красный шлагбаум, он понял, что въехал в город мертвых, на кладбище Монпарнас. Потом произошло что-то, чего он не мог представить даже во сне.
Створки зеленого фургона тихо распахнулись, теперь – ни малейшего щелчка, ни единого звука. Его душа робко выскользнула наружу, облегченно взмыла вверх, оставляя позади все ужасы оккупации, все тайные укрытия и кровоточащие стенки желудка. Некоторое время спустя один поэт и соотечественник напишет:
Скажи, душа… как выглядела жизнь… как выглядела с птичьего полета…
Она поднялась высоко в небо и с наслаждением сделала несколько кругов над великолепными проспектами этого размашистого кладбища. Летать – вот чего всегда жаждала его душа, томясь в тесном узилище худого тела. Летать, все выше и выше, в сильном, пронизывающем душу порыве. До верхушек деревьев и дальше, выше, как давно, в забытом детстве, когда он, лежа спиной на балтийской песчаной лесной почве, пристально смотрел вверх, пока голод не прогонял его домой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу