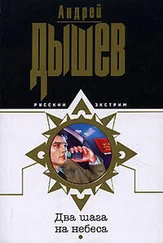Ничего это не будет. Она так и будет сидеть на мелководье, и ее мокрый купальник сожмется до каких-то полосок и тесемок, а тот… тот будет шутя спихивать её в море — и они будут уплывать, туда — в грот, и там…
Весь ужас и был в том, что тот, кто стоял у этюдника — не умел плавать и смертельно боялся моря.
Машка Казначейская — высокая шатенка, стриженая коротко, да еще так, будто нарочно — чтобы седина жила в косой челке и челка будто осыпалась на по-прежнему прекрасные, раскосые, Машкины глаза. Зелень глаз слегка поутихла, притомилась, и стала из Шартрёза — бутылочной. Гера Максимчук — еще выше Машки, на целую голову, и ей приходится подпрыгивать, когда она шепчет ему что-то на ухо. Гера барин, педант и неврастеник. Они росли с Машкой в одном подъезде, почти в одной квартире — очумевшая от суеты Машкина мать, в вечно стоптанных туфлях и в чулках, пустивших стрелки, с сумками, набитыми вперемешку тающими курами и библиотечными книгами для Машкиных олимпиад, ключи забывала еще до того, как защелкнется английский замок, и потому Машка, в стоптанных же ботиночках и в переднике, словно выстиранном в чернилах, проводила до-вечернее время в квартире Максимчуков. Папа был полковник, мама — жена — полковника. Имелась бабушка, к бабушке прилагался дед Максимчук. Ужас, сколько их было на одну бедную Машку. Впрочем, кота звали Пулька. У Максимчуков были настоящие обеды на скатерти и подставки под столовые приборы. С тех давних школьных пор Машка и Герка попеременно женились и разводились, производили на свет детей, меняли квартиры, хоронили родню, короче — жили, как все. Разведясь в сорок лет, Машка сказала — стоп. И стала жить для себя. Герка по инерции еще взращивал и вскармливал детей от предыдущих браков, бесконечно делил квартиры, словно размножая квадратные метры в лабораторной чашке Петри. Неизменным было одно — их ноябрь. Самый противный месяц, даже хуже февраля — потому как там впереди март! Они долго созванивались, утрясали свои дела, путали дни, переносили встречу — но встречались! И непременно у памятника Гоголю, у того, «Андреевского». Машка по врожденной забывчивости так и норовила примчаться на Гоголевский бульвар вместо Никитского, до теперь, в эру мобильных телефонов это легко разрешалось. Шли они всегда под ручку — со стороны — профессор, но не с аспиранткой, а так — с зав. кафедрой, скажем. И все учебный план обсуждают. Герка и впрямь вида был профессорского, носил широкие верблюжьи пальто, баскские черные береты и очки в тонкой матовой оправе. Герка был румян, белозуб и от него за версту пахло благополучной жизнью, пестрой и дорогой, как кашемировое кашне. Машка вся состояла из фрагментов. То есть — в целое, в ансамбль собрать она себя не могла. То сапоги не подходили к шляпке, то шляпка не шла к перчаткам, а то и вовсе — палантин не гармонировал с самой Машкой. Но их нежная детская привязанность с лихвой перекрывала все эти недочеты. У Машки всегда было что рассказать о бурно текущей жизни, И Герка, сжимая в руке ее длинные пальцы, снисходительно улыбался, и говорил, что Машке непременно нужно проверить легкие и бросить курить, а еще он хотел порекомендовать ей чудесного мануальщика, который берет всего… он называл сумму, на которую Машка жила месяц вместе с собакой Колином Фертом в однушке в Лихоборах. Герка удивлялся её расточительности, говоря, что и мама её — прости, Маша, не умела разумно планировать бюджет, в отличие от семьи Максимчуков, где с этим легко справлялась бабушка. Замерзнув, Маша и Герка идут в кафешку при Консерватории, и Герка, сдвинув очки, возмущается ценами, а Машка, получив вожделенный чайник с травами, греет об него руки и и трется щекой о Геркин пиджак английского твида. Герка не любит нежностей «на людях», но, не желая обижать подругу детства, рассказывает ей забавные истории, случающиеся с ним в Европе, где он уже двенадцать лет читает лекции по русскому деревянному зодчеству. Машка страшно хочет поехать с ним — но не решается напроситься. После чая они идут гулять по холодеющей от снега Москве, и, когда Машка спотыкается о неровно положенную плитку, Герка думает — а что было бы, если бы я тогда на ней женился? И не находит ответа.
Глеб все мял пальцами сигаретную пачку, бездумно отмечая, что пачка — последняя, и сигарет нет, и придется идти пешком по раскисшей дороге в ближайший РАЙПОвский магазин, а магазин будет закрыт, или не будет сигарет, или будут, но те, к которым он привык, и все это добавляло отчаяния, и делало случившееся очевидно непоправимым. За окном сек слежавшееся сено серый октябрьский дождь, и яблоки, упавшие еще в сентябре, морщились, становясь коричневыми и сливались цветом с опавшей листвой. От Глеба ушла жена. Это было против всяких правил, ведь Глеб был убедительно успешен, даже отчаянно удачлив, был хорош собой той мужской красотой, которая, в жестах, в умных, понимающих глазах, в манере сдувать челку со лба, — проявлялась не сразу, но брала в плен надолго. Глеб был художником, начинал работать в плакате, потом перешел, как все, кто хотел выжить, в рекламу, пообвыкся с ней, а для себя рисовал — «в стол». Наташа была старше, тоньше, самозабвенно любила Глебушку и легко, как ему казалось, бросила театр, в котором никогда не получала ничего, кроме ролей второго плана. Решение переехать в деревню исходило от Наташи, и они оба с жаром принялись наполнять купленную за бесценок избу прялками, утюгами и самоварами, Наташа ходила в длинном сарафане, научилась неприятно «окать» и тянуть слова, подражая волжскому говору, гремела ведрами, стучала грязными босыми пятками, и даже зачем-то купила у соседской бабки поросенка. Глебу все эти игры в деревню были неприятны своей показной неестественностью, и Наташа как-то опростилась, потеряла тот городской шик, за который, наверное, Глеб и полюбил ее — ей так шли все «шмотки», все галстучки-пиджачки, сапоги на высоченных каблуках, даже яркая косметика, и Наташа всегда была в центре всего, и вокруг нее все вращалось, шумело и искрилось. А тут она стала блеклой, какой-то «застиранной», и Глеб все чаще старался заснуть пораньше, чтобы не отвечать на Наташино — Глебчик? спишь? Жизнь их продолжалась, а любовь уходила, истончалась, и однажды исчезла совсем. Глеб отводил глаза, звал собаку и уходил в лес, где, лежа на упругой подушке изо мха, рассматривал облака и мечтал свалить куда-нибудь в Испанию, где жара, вино и фламенко. Наташа оставалась дома, с остервенением варила кашу поросенку и плача, пачкая подол длинной юбки, заливала холодной водой ни в чем неповинный огород. Они почти не разговаривали, а если разговаривать приходилось, тут же вспыхивала ссора, и Глеб уходил к соседу, Петьке, и надирался с ним паленой водкой до полного отвращения к себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу