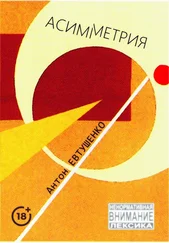Иссохшее, криво перечёркнутое морщинами лицо Фалика налилось плотным палубным глянцем. Впалые глаза, запавшие в костяные глазницы, затянулись тонкой маслянистой поволокой — предтечей хандрических флюидов, неизменно конвертируемых у старой гвардии в ностальгические слёзы по ушедшим временам. Но Фалик не страдал беспорядочной сентиментальностью и легко пресёк на корню грядущее нытьё. Он подтянул распухшим носом набежавшую сырость, мерзко и привычно харкнул и побежал дальше с утроенной силой по канве воспоминаний.
— Оба из Клина, но меня отец с матерью в Ленинград после войны годовалым карапузом потащили. Они город после блокады восстанавливали, а зёма в Москву подался шестнадцатью годками позже, штурмовать Ленин-хиллз 45 45 Ленинские (Воробьёвы) горы, но в данном случае имеется в виду МГУ им. М. Ломоносова, который территориально находится там же.
. Задружили крепко, на целых двадцать лет. Зёма после армии, недолго думая, двинул в моряки. Вернулся он из очередной такой загранки с трофеем — тем самым «Доктором Живаго». Я как узнал, тут же на правах сослуживца и друга в очередь-то вклинился. Книгу выклянчил на три недели, как в библиотеке, под роспись. Помню эти разговоры в училище об отщепенце и предателе Пастернаке и его антисоветском «пасквиле». Рукопись отвергли попеременно Гослитиздат, журналы «Новый мир» и «Знамя», зато заинтересовался этот макаронник, не помню уж фамилии. Роман, чтоб не соврать, перевели на пару дюжин языков. После началась, конечно, травля, исключение из Союза писателей, порицания в газетах: «не читал, но осуждаю». Ему же давали Нобелевку, он был вынужден даже отказаться. Но вся эта шумиха только подогрела интерес к «Живаго». Короче, Борис Исаакович меня тогда здорово выручил со своей «антисоветщиной». Я перепечатал роман на пишмашинке, которую тоже одолжил у друга.
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — Сава уселся на табурет, зажал ладони в коленях и криво усмехнулся. Он слышал эту историю сотни раз, но знал наверняка: перебей он старика, намекни, что тот и сам ещё недавно подгонял Саву намёками о делах, и зловредный старикашка ему это припомнит — и не раз! Он знал манеру Фалика заходить издалека, с самого начала, особенно когда дело касалось книг, поэтому терпеливо пережидал, когда тот наговорится.
— Обтачивал навыки, получал бесценный опыт, — продолжал клекотать своим тягучим хрипловатым голоском Шпигель. — Три недели изнурительного битья по клавишам машинки, ещё неделя — изготовка переплётов и шитьё, а через месяц стопка тончайших папиросных листов, переплетённых в зелёный «бристоль». И вот я с четырьмя экземплярами самопального «Живаго» стою у галеры Гостиного двора. На обложке никаких названий, внутри никаких титульных листов. Подошла пожилая дама с толстым слоем пудры на щеках. Полистала и говорит: «Трудовым потом разит от этих текстов». Ну, я принял на свой счёт, разулыбался, хотя комплимент, конечно, был Борис-исакычу. А потом, помню, как сейчас, спрашивает: «А если завтра будет публичная казнь, ты пойдёшь смотреть или нет?» Я аж опешил. Не знаю, что и говорить. Молчу. А она ни слова не сказала, только вытащила из кошелька пятьдесят рублей и мне шутливо пальцем погрозила, как грозят нашкодившему ребёнку. Забрала машинописную копию и больше я её не видел, но до сих пор считаю, что это была Лидия Чуковская.
Сава смешно крякнул, вкладывая в этот звук весь свой скепсис, но Фалик был поглощён рассказом, чтобы обратить внимание на такую ерунду, как чьё-то сомнение насчёт верности его предположений.
— А копирочные экземпляры — «виолетки» — я отдал одному аспирантику оптом по тридцать три. Рубль ему до сих пор должен, не смог найти сдачи с сотенной бумажки. Вот так: полтораста деревянных за месяц работы. Скажу, совсем неплохо для вчерашнего студента-раздолбая. Раздал долги, накопленные за четыре месяца безденежья, и таки вернулся на фабрику, ту самую, где я громко хлопнул дверью. Оригинальный «Живаго» ушёл к очереднику, а я решил, что лучший способ быть поближе к дефицитной книге — это работать на книжной фабрике. Конечно, четыре пятых выходящих из-под пресса книг были агитпропом или маркленом 46 46 сочинения по марксизму-ленинизму.
, на худой конец, антологиями ирано-болгарских, турко-шведских или ещё каких хрен кому известных поэтов и писателей, но был красный пятитомник Чапека, синий двухтомник Лермонтова, Диккенс энциклопедического формата с шёлковым капталом и ляссе, Семёнов в цельнотканевом переплёте ещё без легендарного Тихонова на обложке. Был Достоевский — «Мёртвый дом», «Бесы», «Братья Карамазовы». Новенькие, нечитанные, пахнущие типографской краской и чем-то ещё совсем не книжным. Через полгода на Гостином дворе я уже был в доску свой. Меня называли литературным бесом, может, потому что больше всего таскал на Галеру именно Фёдора Михайловича. Кстати, спрос на него был всегда стабильный, даже в 90-е, когда книги выбрасывали на помойку целыми библиотеками. Достоевского могла переплюнуть только всякая инфернальная всячина о реинкарнации, грехопадении и смерти, которых не могли наесться лишь потому, что до перестройки наш советский народ вообще ничего такого не видел, не знал и не читал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу