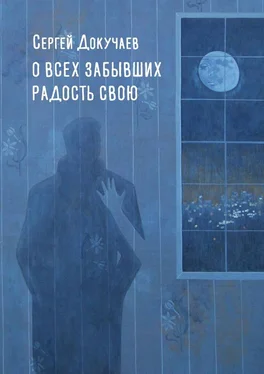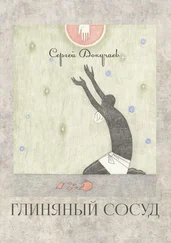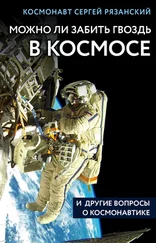— Давление и пульс!
— Пульс сто сорок. Давление 160/90.
Он продолжал щелкать по кнопкам.
— Пульс?
— Восемьдесят, Лев Анатольевич. Это как?
— Я на однокамерный режим перевел водитель и ввел мощность на максимум, чтобы навязать искусственный ритм.
Я сразу почувствовал себя хорошо, только холодный пот выдавал мое состояние.
Дальше все пошло как по маслу. Они доделали все, осторожно установив ритм в границах от восьмидесяти до ста тридцати ударов в минуту, учитывая молодой возраст. Так сказал Лев Анатольевич, мне подмигивая: «Парень молодой. Ему шестьдесят будет маловато. С девчонкой ведь нужна проворность». «Проворность мне сейчас нужна лишь в туалете», — подумал я.
Зашивали уже на живую. Мы выбились из временного интервала и наркоз больше не действовал. Колоть еще не стали. Опасно. Сказали терпеть. Терпел. Крючком, как на голавля, и толстой медицинской ниткой зашивал молодой хирург-ассистент Марат. Ощущения непередаваемые, но после пережитого казались пустяком.
— В реанимацию?
— Нет. Зачем. У нас все хорошо. В палату. Позвоните на пост.
— Сейчас, Лев Анатольевич.
Хирург похлопал меня по плечу, сказав, что я молодец, и вышел.
Я услышал его голос за дверью:
— Я завтра к нему зайду еще раз с чемоданом. Посмотрим, что к чему, но все вроде нормально. Будет на одном проводе работать желудочковом. Если удержит, то так и оставим. Если нет, то будем пробовать еще раз. Парень, кстати, чуть Богу душу не отдал.
Я лежал и смотрел, как мерцает лампа под потолком. Как моя жизнь сейчас мерцает. Никак не хочет уходить. Все медлит зачем-то в очередной раз. Когда меня везли назад в отделение, совсем стемнело. Сестры еще больше поносили весь мир, своих мужей с детьми в придачу, а я думал:
«Ведь я мог опять встретиться с Валерой. Мог ведь? Или нет? Или это был результат больного воображения на краю от недостатка кислорода? Лучше, наверное, не встречаться с ним больше хоть во сне, хоть наяву».
В палате меня уже ждал отец. Я рассказал ему вкратце, как все прошло, опустив непредвиденный эксцесс. Подумал, что не буду сгущать краски. Поел остывшей тушеной капусты, запив несладким чаем, и лег отдохнуть. Мысли мелькали, как комары летом. Мелькали и кусали.
«А что если бы со мной действительно случилось самое плохое»? Что если бы я все-таки подпортил статистику Льву Анатольевичу? Отец бы сидел в палате, дожидаясь меня, ничего не подозревая, мама бы дома ждала звонка от отца, как все прошло».
Я постарался отогнать эту мысль.
Часы показывали одиннадцать. Медсестра зашла и померила сахар глюкометром, проткнув мне палец иголкой.
— 11,4, — сказала она спокойно и ушла.
— Много, — так же спокойно сказал я.
Через десять минут она вновь зашла и уколола в плечо инсулин.
— Дежурный врач сказал сделать укол, — словно слыша вопрос, ответила она мне.
Дверь вновь захлопнулась.
— Пап, слушай, родители Кати к нам не заходили? Не звонили насчет меня?
— Нет, — ответил он угрюмо.
— Понятно. Ладно, я спать буду. Поставь мне утку поближе.
Утром, как обычно, меня разбудили в шесть часов для замеров давления, уровня воды в организме, сахара. Попросил отца помочь отвести меня в туалет, где умылся. Ноги тряслись, превратившись в худые палки. Правое бедро вплоть до паха было синим, как баклажан, от уколов. Я посмотрел на себя в зеркало и понял, что постарел лет на пять минимум. Кажется, даже морщины и седые волосы появились. Попытался улыбнуться сам себе, но не вышло.
До завтрака было еще почти три часа. Захотелось чаю, чтобы хоть как-то забить привкус химии во рту. В палате был кем-то из прошлых пациентов оставлен старенький телевизор, с одним работающий каналом. Отец включил.
В стране ничего не изменилось. Все также реклама обещала рай за какие-то смешные деньги, женщины манили женщин покупать новые пальто и шубы, мужчин соблазняли на покупку новой машины, говоря, что именно вы ее заслужили, именно она достойна вас. В новостях опять врали со всех сторон, а от правды становилось еще хуже, чем от вранья. Я попросил выключить. Сделал глоток чая.
Вот так. Если бы я остался «там», то тут вряд ли бы что-то от этого изменилось. Вряд ли бы мир заплакал или начал скучать. Некогда. Незачем. «А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет», — как пел Виктор Робертович Цой.
Странное ощущение. По факту я жив, но, по сути, нет. Прежнего Максима нет. В зеркале сегодня я видел кого угодно, но не Максима. Это был чужой мне человек, страшный, пустотелый, потерявший очень многое, и поэтому страшный. Такого нужно изолировать. Дать группу инвалидности и изолировать от общества. От жены. От всех.
Читать дальше