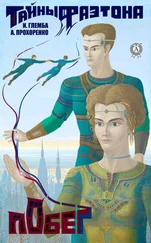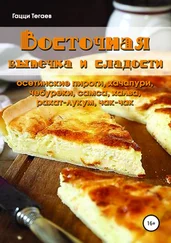А тот шагает вдоль выстроившихся шеренгами крестьян, шагает молча и торжественно, будто делает смотр войскам.
Он высок и красив собою: сильные плечи, волевой подбородок, удлиненный разрез карих глаз, а лоб, как диадемой, отмечен печатью разума.
Ишти идет, не поднимая головы, шаги его ритмичны, гулки и отдаются эхом на мощенной камнем площади;
но вдруг, внезапно остановившись, он велит подойти старшому.
Колыхнулась ранее недвижно застывшая масса, вперед проталкивается невысокий, ладно сбитый человек и называет себя:
— Элек Саллдобади, —
и покорно ждет барского повеления, с какого конца поля приниматься им за работу.
Ишти указывает на мощеную площадь у себя под ногами:
— Здесь.
— Здесь?
— Здесь!
Не понимает крестьянин и вопрошающе косится на товарищей, но тем тоже невдомек, что́ затеял барин.
Добродушно усмехается Ишти: ему понятно, отчего крестьяне его не понимают. Как им понять, если они начисто лишены воображения!
Он терпеливо объясняет, мол, постарайтесь представить, что это не рыночная площадь, а жирная черная земля, а на ней колышется пшеница.
Как будто они в поле, как будто…
И пусть немедля принимаются за работу, становятся в ряд с края площади и взмахивают косами, вроде бы косят пшеницу;
плату свою они получат, как если бы в самом деле косили пшеницу.
Советуются промеж собой крестьянские вожаки и соглашаются выполнить желание Ишти: скосят они эту несуществующую пшеницу, ежели потом заплатят им взаправдашней.
Вздохнул Саллдобади, занес косу — и осторожно подсек ею воздух,
а за ним и остальные — поначалу неуверенно, неловко, а после, втягиваясь, все исправнее и резвей ходят косы, как ходят из лета в лето, когда на жатву подряжается артель.
Ну и зрелище — залюбуешься:
пять десятков косарей косят на голом месте.
А Ишти подстегивает их воображение:
велит им время от времени отбивать косы, как то положено при косьбе,
велит им песни петь, как поют косари, когда работа в поле спорится.
И затягивает старик крестьянин дребезжащим голосом:
«Над заросшим прудом утица летела, а в широком поле пшеница поспела…» Однако Ишти напев кажется слишком медленным и тягучим, он велит петь другую песню: «Ах ты дом, моя хибара, вспыхнула-заполыхала…»
Любо-дорого смотреть!
Жандармы поуспокоились, стоят ухмыляются.
Господа улыбаются в усы.
Дамы смеются и хлопают в ладоши.
Встает солнце и с удивлением взирает на площадь.
Встает город; заслыша новость, собираются горожане, тысячами обступают площадь и хохочут.
Рыночная площадь превращается в арену.
Но вот какая-то девчушка-подросток вдруг восклицает: а вязальщицы снопов где же?!
Ишти подзывает ее к себе, целует в лоб (у малышки есть фантазия) — и отдает распоряжение, чтоб каждому косарю определить вязальщицу. Подряжаются исполу девушки, женщины, склоняются за рядом сверкающих на солнце кос; только булыжники на площади раскалились, вот босые вязальщицы и прыгают с камня на камень,
и это дает новую пищу веселью.
Вся площадь залита морем веселья. Блажен и радостен день сей. Блажен господь, день сей ниспославший. А Ишти — герой этого дня.
Теперь уж и господа забыли свои страхи, хохочут вовсю, слезы от смеха утирают.
Со свистом ходит коса старого Саллдобади, падают слезы его на камни, и видит он: каждая капля распускается цветком,
и вот уже вся широкая площадь — что луг необъятный, где господа стоят, точно пшеничные колосья,
а пятьдесят косарей косят их рядами, и каждый цветок на лугу рдеет от крови,
и каждый взрыв хохота глохнет в предсмертном хрипе.
Такие картины рисует в уме старый Саллдобади, потому как воображением и его бог не обидел.
Перевод Т. Воронкиной.
«Népszabadság», 31 авг. 1980 г.
«Иностранная литература», № 6, 1976, с. 206.
Csák Gyula. A szikföld sóhaja. Budapest, 1977, с. 180.
«Иностранная литература», № 6, 1976, с. 208.
«Népszabadság», 10 июля 1981 г.