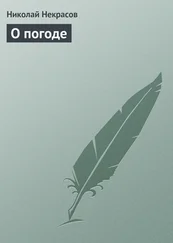Куся часто думала о смерти. Годом раньше она даже предприняла безобразную попытку наглотаться феназепама — не от несчастной любви или в результате еще какого-то конкретного удара судьбы, просто ей вдруг показалось все безразличным и чудовищно скучным в своей бесперспективности. Скорей ее забавляла мысль о том, как «все забегают и заплачут», но мысль эта не вызывала злорадства или удовлетворения, то был исключительно легкий оттенок эгоцентрического любопытства, а о том, как все получится в действительности, как-то не особенно и думалось. Куся выцыганила таблетки у добрейшей женщины-провизора, мамы своей одноклассницы, насочиняв какую-то драматическую историю о том, что мама мучается бессонницей, но не решается никому об этом рассказать, а она, Куся, хочет ей помочь. Засыпая, черствая дочь чутких и заботливых, но совершенно ничего не понимающих в ее жизни родителей, успела ответить на телефонный звонок своей подруги детства Муси (так они и с детства были в рифму, Муся и Куся), пробормотав что-то патетическое типа «…может быть, в морг еще успеешь». Верная Муся побежала к своей маме, а та немедленно перезвонила Кусиным родителям, которые пришли в ужас, растолкали Кусю, заставили ее выпить полведра воды с марганцовкой и одновременно ставили клизму. Дурында Куся и не догадывалась, что если пришлось бы вызывать «скорую», то эта «понарошку» суицидальная попытка закончилась бы постановкой на учет в психоневрологический диспансер и еще рядом пренеприятнейших последствий. Но обошлось без «скорой», мама плакала и пыталась добиться причины, папа смотрел в одну точку, и трудно было понять, о чем он думал. Кусе было все равно. Она проспала целый день и, проснувшись под вечер, поняла, что ей непременно надо поехать на кладбище, где похоронены ее прабабка, которую она никогда не видела, дед с бабушкой и сестричка, прожившая всего месяц в 85-м году. В ближайший выходной Куся села на трамвай и отправилась на Введенское (в простонародье — Немецкое) кладбище в Лефортове.
С того дня Куся повадилась совершать эти поездки каждое воскресенье. Прежде чем прийти на могилу к своим, она долго гуляла по двадцати гектарам, огороженным кирпичной красной стеной, между заброшенными часовнями, белыми ангелами и строгими черными стелами. Через месяц она уже хорошо ориентировалась в географии кладбища и приметила завсегдатаев. Ближе к Новому году, когда боковые дорожки были уже заметены снегом и без труда можно было передвигаться только по главной аллее, Кусю вдруг подозвали к себе выпивающие возле часовни мукомольных промышленников Эрлангеров, построенной по проекту Шехтеля, одетые в рваные телогрейки нетрезвые люди. Они весело предложили ей водки и спросили сигарет, Куся не отказалась и угостила их маминым «Честерфильдом», что мгновенно приклеило к ней кличку Буржуйка. Компания состояла из трех мужчин и пяти женщин, двое из них жили и работали на кладбище, остальные имели сложные криминальные биографии и бродяжничали. Аборигены ни о чем не спрашивали Кусю, зато очень много и охотно ей рассказывали собственно о Немецком погосте, для Куси это звучало какой-то бесконечной сагой о потустороннем мире. В следующий раз она уже прицельно искала своих новых знакомых, нашла их на том же месте и заранее полезла в сумку за припрятанной буржуйской пачкой курева…
Пожилой работник кладбища, которого называли Гордеичем, полуспившийся бывший театральный осветитель, неспешно затягиваясь дареным Кусиным «Честером», рассказывал ей, что Введенское было открыто в конце восемнадцатого века во время эпидемии чумы, как и знаменитое Ваганьковское, ибо умерших от болезни запретили хоронить на церковных погостах в черте Москвы. Первое время оно в народе называлось Иноверческим, потому что там в основном хоронили католиков, протестантов, представителей англиканской церкви, старообрядцев, а что до национальностей, то потому впоследствии кладбище и стало зваться Немецким — из-за огромного количества упокоившихся в русской земле немцев, от Фердинанда Теодора Эйнема, основателя кондитерской фабрики (будущий «Красный Октябрь») до «тюремного», «сумасшедшего» доктора Фридриха Гааза. Последнего, кстати, Кусины собутыльники уважали более прочих. Они подвели ее к массивному камню с каменным же крестом, обнесенному толстыми цепями. На цоколе имелась надпись блеклым золотом — «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО», и Гордеич поведал:
— Псих был этот немецкий айболит. Говорят, суконную фабрику продал свою, дом, усадьбу подмосковную — все чтобы неимущим помогать, больничку построил — и сам там жил. И очень следил за тем, как арестантов содержат. Придумал кандалы полегче, на себе прям проверял, шел с зэками вместе по тракту по Владимирскому — который теперь Шоссе Энтузиастов — их в Сибирь гнали, а он проверял, как идут, не трудно ли, не бьют ли. Благодаря ему железные прутья запретили, баб брить наголо перестали — им и кандалы кожей изнутри обивали, кстати. Стариков и больных вообще от цепей освободили, так шли. Помер доктор, как последний нищий, у него в конце жизни одна только подзорная труба и осталась из личных вещей, очень, говорят, любил на звезды смотреть. Так что его хоронили за казенный счет, а провожать двадцать тыщ народу пришло, вот какой был немец, щас таких не делают. Я знаю, если кто с зоны откинется — не первым, но вторым делом сюда, доктору поклониться, традиция. И если о чем попросят — чтоб родственник какой или кореш срок мотали справно — тоже к нему бегут, и всегда сбывается, потому говорят — «у Гааза нет отказа».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу