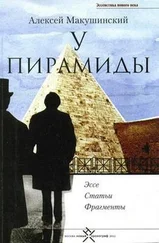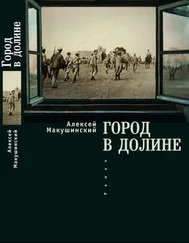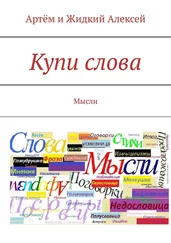А Бердяев обожал слово «смысл». «Смысл творчества». «Смысл истории». Такие заглавия идут, конечно, от Владимира Соловьева («Смысл любви», «Общий смысл искусства»). Можно видеть в них все то же «заднемирство», удвоение реальности. Есть, значит, творчество – и есть его смысл. Есть история – и есть смысл истории; две разные вещи. У истории, как и у всего остального, должен быть смысл; этот смысл обретается только в мифе. Да и сама история – миф («История не есть объективная эмпирическая данность, история есть миф. Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности»); что это значит? И это значит все то же; все то же, неискоренимое, удвоение мира. Есть презренная эмпирическая данность (так называемая; факты и даты), а за ней есть другая данность, истинная реальность («иного порядка»), настоящая, метафизическая история, тайна и драма Божественной жизни, отражением которой и оказывается история земная. История у Бердяева есть, в сущности, сакральная история (как и у Гегеля). И постигается она, опять-таки, через миф (что бы сие ни значило). «Не через отвлеченную философскую мысль, построенную по принципам формальной рационалистической логики, постижима Божественная жизнь, а через конкретный миф о Божественной жизни как страстной судьбе конкретных действующих Ликов, Ипостасей Божества. Это – не философема, а мифологема». Так в относительно раннем «Смысле истории»; но и в более поздних текстах, вплоть до позднейших, звучит этот странный мотив познания мифа через миф. «Богопознание невозможно через понятие, оно возможно лишь через мифы». И в другом месте: «Философия начинает с борьбы против мифа, но кончается она тем, что приходит к мифу, как увенчанию философского познания. Так было у Платона, у которого познание через понятие переходит в познание через миф. Миф лежит и в основании немецкого идеализма, его можно открыть у Гегеля». Можно, можно открыть; но стоит ли радоваться открытию? Из гегелевского мифа вышел миф Марксов; вышла вся революционная эсхатология; вышли, вылезли, выползли все секты и секточки, группы и группочки, все верховенские «пятерки» и ежовские «тройки», строившие царство божие на имманентных путях истории; Бердяев знал это лучше, чем кто-либо. «Марксисты люди верующие, наследники мессианской идеи, – пишет он в поздней статье о Сартре. – Их должна отталкивать идея абсурдности и нелепости мирового и исторического процесса…» Еще бы она их не отталкивала. Миф как раз и покоится на непризнании абсурда. Миф есть протест против абсурда, борьба с бессмыслицей, требование смысла, смысла и смысла, вопреки всему и во что бы то ни стало, пускай земля кровью зальется. Миф есть тотальное осмысливание бытия (как бывает окучивание, окуривание). И миф всегда возвращается. Миф потому всегда возвращается, что только он и может дать человечеству этот всеразрешающий, всепобеждающий Смысл, а значит, избавить его от ненавистной ему, человечеству, необходимости создавать свои собственные смыслы, собственными слабыми силами. Верной дорогой идете, товарищи. Все действительное разумно. Колесики крутятся, винтики вертятся. Пусть я никто, но я участвовал в Великих Событиях, в Крестовом походе на Луну, в строительстве Всемирной Электростанции; моя жалкая жизнь прожита не напрасно.
Из всего этого следует, что рационализм и Просвещение гораздо лучше уживаются с абсурдом, чем иррациональная вера и романтическая архаика. Мы привыкли думать иначе. С одной стороны, рациональный, скучный мир Просвещения, где все учтено и просчитано, где царствует «дважды два – четыре» и несчастный человек не в силах вырваться из узилища кантовских категорий; с другой – чудный, сказочный, фантастический мир веры, где пророки ходят по водам и возносятся на небо, ослицы говорят человеческим голосом и в ночи можно встретиться с ангелом. Это очень поверхностный, очень наивный взгляд на вещи. Совсем напротив, ровно наоборот. Мир, в котором случаются чудеса, это гораздо более осмысленный мир, чем тот, где чудес не бывает. Всеми своими чудесами миф дает тотальное объяснение мира, которого разум дать не может, давать не должен, если же начинает давать, то сам превращается в мифологему. Есть огромные пласты иррационального в нашей жизни; только разум способен их увидеть и описать; главное, способен признать и принять их; научиться жить с ними. Привычные представления должны быть, наконец, перевернуты. Признание иррационального – рационально; неготовность признать его – иррациональна; признание абсурда – разумно; непризнание абсурда – абсурдно. Тотальный смысл – бессмыслен. Эту тотальность можно считать одним из (двух) важнейших признаков мифа. Второй – обещание избавления, исторического или хоть личного, лучше бы и того, и другого. История имеет конец, значит, опять-таки, смысл, и мы участвуем в осуществлении его. Верной, очень верной дорогой идете, товарищи… В конце этой дороги – что вас ждет? Царство Божие, Коммунизм, Третий рейх, Три Тысячи Девственниц. От тотального до тоталитарного всего один шаг. Потому, увы, в религиозных философах, даже самых лучших, самых свободных, всегда есть тайный тоталитарный уклон, которого они не могут да и не пытаются преодолеть. Русские религиозные философы замечательно описали коммунизм как псевдорелигию (за что, повторюсь, мы вечно будем им благодарны). Коммунизм выдает себя за научное атеистическое учение, а на самом деле это псевдорелигия избавления, эсхатологическая секта, чающая, еще раз, безбожного царства божия, достигаемого на имманентных путях истории. Все это здорово. Но в слове «псевдо» давно уже начал я сомневаться. Они ведь исходили из того, что есть религия «истинная» – их собственная. «Истинная религия» – всегда именно та, которую ты сам исповедуешь; как удобно… «Истинной религии» не бывает. Один обман сменяется другим обманом, затем сменяется третьим – или снова первым, первый снова вторым. Коммунизм – тоталитарная секта, но и христианство, в сущности, тоталитарная секта. Христианство нам симпатичней, потому что почтенней? потому что в двадцатом веке подвергалось гонениям? Одна секта преследовала другую. Коммунисты тоже подвергались гонениям. А каким гонениям христиане подвергали инакомыслящих, инаковерующих – кто здесь сочтется жертвами? На каких весах какого Иова можно все это взвесить? Нетерпимость христианства уж точно не меньше прочих. Оно только в последние два-три века пытается, через пень-колоду, изобразить себя хорошим, добрым, «толерантным», открытым миру.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)