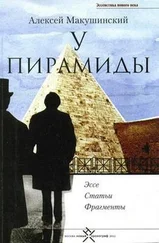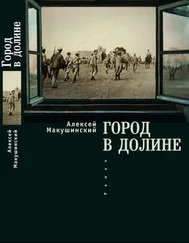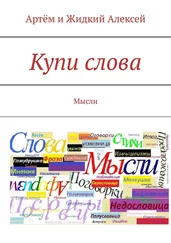Эта бесконечная монотонность и есть, наверное, главное отличительное свойство всех его текстов, стихотворных в особенности; бесконечные повторения одного и того же, бесконечные анафоры, сознательно напоминающие какие-то, что ли, литании, глоссолалии; непрерывное нагнетание риторической страсти. Главное, что витийство не прерывается; армия четверостиший марширует по бумажной, но столь же бескрайней равнине, пустыне, растянувшейся на двадцать страниц, сто страниц, триста пятьдесят страниц. Триста пятьдесят страниц, на каждой по восемь четверостиший, восемь ровных каре, шагающих в пропасть литературного забвения; современники потешались над этим последним его созданием («Ева», Ève); потомки просто его не читают (да и как прочтешь, в самом деле?). Единственное, что примиряет с этой обезумевшей элоквенцией, так это как раз ощущение безумия, а значит, бесстрашия. Бесстрашным безумцем надо быть, чтобы сочинить триста пятьдесят страниц (считайте сами, сколько тысяч строф, строк), от лица Иисуса, ни много ни мало, обращенных к Еве, праматери человечества. Все-таки не очень верится, что это всерьез. Кажется, что это гротеск и насмешка. Увы, это гротеск непроизвольный. Религиозные авторы, как правило, лишены чувства юмора. Вообще, велеречие – соблазн и несчастье французской литературы. «Гюго – это декламация», – говорил Модильяни Ахматовой. А такие поэты, как Пеги, как Клодель, именно Гюго и наследуют. Из русских этим католикам всех ближе, наверное, атеист Маяковский. Но декламационная линия в русской поэзии, скорее, побочная; у нас свои собственные соблазны. Великая революция, совершенная во французской литературе Бодлером, в русской произойти не могла бы по одной простой причине – в ней не было надобности. Великая революция, совершенная Бодлером, заключалась, среди прочего, в отказе от красноречия, в победе над риторикой. «Возьми красноречие – и сверни ему шею», – провозгласил, как известно, Верлен, в этом и во многих других отношениях ученик и продолжатель Бодлера; лозунг, в русской литературе невозможный, потому что ненужный.

Пруст, между прочим, отзывался о Пеги едва ли не с презрением, как о совершенной бездарности. Бездарность не бездарность, но полюбить эти молитвенные завыванья в стихах, эту полемическую прозу, с ее, опять-таки, нагнетанием возбужденных повторов, ее задыхающимися инвективами по адресу все той же проклятой современности, я решительно не способен. А ведь писать нужно о том, что любишь, о тех, кого любишь (неважно, соглашаешься с ними или не соглашаешься). Я люблю совсем других авторов. Еще я люблю места, пространства, улицы, вокзалы, маршруты; о них писать всегда в радость. Я в Шартр не пошел (а следовало бы) пешком, но поехал просто на поезде, все с того же Монпарнасского вокзала, суетливого и путаного, бетонного, мрачно-многоэтажного, где у меня долго не получалось купить билет, не получалось даже кассу найти; за пять или, скажем, семь минут до отхода очередного двухэтажного поезда мне все-таки продал билет молодой человек в инвалидной коляске, очень бойко разъезжавшей на ней за своим столиком, объяснивший мне, как пройти, как успеть, с той улыбкой и вежливостью, которые свойственны бывают страдальцам. Сиянье счастья на лицах увечных, всегдашний упрек нашему неизбывному недовольству… Вот эти поля, сожженные солнцем; эта равнина Босы; что-то, при желании, можно даже увидеть в ней русское. В Шартре тоже вокзал перестраивался; но выйти к собору труда, разумеется, не составило – собор виден сразу, виден отовсюду; да ничего и нету в Шартре, кроме собора. К сожалению, Раиса не пишет, когда именно они с Жаком провели свои три дня в Шартре, так сильно приблизившие их к растворению в вере; ясно, что это было между 21 июня 1905-го и 11 июня 1906 года, днем их крещения. Были бы они там в январе 1906-го, могли бы увидеть странную пару, сошедшую с поезда, идущую тем же путем, каким я сам шел в августе 2017-го: крепкого плотного старика с седой мощною бородою, в цилиндре и длинном пальто, в сопровождении молодого человека в котелке, очень худенького, с бородкой скромной и редкой: Родена и Рильке, как вы уже догадались, тоже отправившихся в паломничество к Шартрскому собору, паломничество не религиозное, но, так скажем, художественное. У кого есть наука и искусство, говорил Гете, у того есть и религия. Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion. Рильке вообще недолюбливал веймарского олимпийца (по разным причинам), но здесь, я думаю, он бы с ним согласился. Они приехали из Мёдона, где главный, уж простите, поэт двадцатого века (ну хорошо, один из главных поэтов двадцатого века) жил в ту пору на положении секретаря (что вовсе не было синекурой), младшего друга (к которому мэтр снисходил, не очень понимая, как кажется, кто залетел в его жизнь; не зная к тому же немецкого; французы никогда не знают немецкого); до их (унизительного для Рильке) разрыва оставалось три каких-нибудь месяца.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)