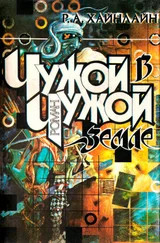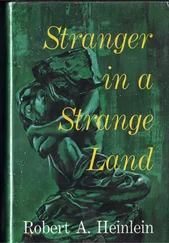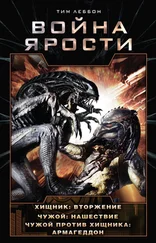Широкое хождение в литературе и публицистике ГДР приобрело бехеровское слово-лозунг «Anders-werden» — преобразование, перемена. Кристоф Хайн, конечно же, осознал то, что сделано его предшественниками, и не сомневается в значительности происшедших в стране перемен. Однако он убежден в том, что их не следует абсолютизировать: недопустимо останавливаться на достигнутом. Главное для Хайна — становление новой социалистической личности. Известно, что социализм создает для этого необходимые предпосылки, однако немало здесь зависит и от самого человека. Хайн сознательно переносит проблему в «личностную» плоскость. Для него важно понять человека изнутри, понять, что тормозит его в движении вперед, что мешает полному раскрытию всех заложенных в нем возможностей.
Порою Хайн всматривается в лица деятелей минувших веков — именно для того, чтобы глубже понять человека нынешнего. И тут он тоже считает важным сохранять ясность взгляда, не обольщаться блеском прославленных имен. Пожалуй, единственный безоговорочно положительный герой у Хайна — Александр фон Гумбольдт, непоколебимый в своих гуманистических убеждениях, упрямо делающий свое дело ученого, невзирая на все происки и пошлую суетню высокопоставленных невежд, прусских или российских. В других случаях писатель рисует своих персонажей по преимуществу в негативных ракурсах. При всем почтении к заслугам Расина как драматурга Хайн нелицеприятно демонстрирует его конформизм, привязанность к придворным обычаям абсолютистской Франции. Без прикрас предстает у него и Оливер Кромвель — революционер, превратившийся в деспота, и Фердинанд Лассаль — краснобай и честолюбец, претендовавший на роль рабочего лидера. На исторических примерах писатель демонстрирует, какими непростыми, подчас непредвидимо запутанными дорогами идут отдельные личности — и целые народы — в своем стремлении к социальному прогрессу.
Своеобразие творческой манеры Хайна ярко сказалось уже в первой его пьесе, поставленной в 1974 году, — «Шлётель, или Ну и что же?». Она была задумана как современная трагикомедия. В ней идет речь о предметах остроактуальных по сей день, и не только для ГДР: о борьбе с бюрократизмом, рутиной, ленью. В роли борца выступает молодой социолог, которого за неуживчивость характера «сослали» из столичного научного института на завод в Шведт. Шлётель и там возмущается бесхозяйственностью, неразберихой, пустой тратой рабочего времени, — он требует, чтобы производство подчинялось «диктатуре разума», пытается усовершенствовать систему оплаты труда. Не найдя поддержки в коллективе, привыкшем работать с прохладцей, по старинке, Шлётель идет на крайние меры: пишет жалобы, обвиняет руководство завода в злостном саботаже и, дойдя до отчаяния, кончает с собой в то самое время, когда предложенная им реформа оплаты труда утверждается вышестоящими организациями.
Хайн-драматург во многом следует заветам Брехта. Ему не столь важно растрогать или взволновать зрителей (или читателей), гораздо важнее заставить их задуматься. Сам он не испытывает и не внушает зрителям сострадания к своему странному герою, хотя тот и оказался по существу прав, но наталкивает на размышления о том, в чем же были просчеты Шлётеля, в чем причины его гибели, по сути дела бессмысленной и неоправданной.
Комически-гротескный вариант подобного же сюжета был дан Хайном несколько позже, в рассказе «Новый Кольхаас (которому больше повезло)». Заголовок намекает на известную новеллу Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас», где герой, человек из народа, вступает в отчаянное и благородное единоборство с могущественным феодалом, защищая свое достояние и достоинство. «Новый Кольхаас», бухгалтер мебельной фабрики Герберт К., получил премию и обнаружил, что ему недоплатили сорок марок. Из-за этой не столь крупной суммы он вступил в длительную тяжбу с администрацией фабрики, долго ходил по инстанциям, пока не добился своего. За время этого затяжного конфликта Герберт К. сам не заметил, как озлобился, утратил контакт с окружающими, сделался чуть ли не маньяком — и стал противен собственной жене, которой надоело его мелочное упрямство. Семья К. распалась. Назойливый жалобщик потерял неизмеримо больше, чем приобрел. Обо всем этом писатель повествует со спокойной иронией, не морализируя, но снова приглашая читателей к размышлениям.
Кристоф Хайн очень редко и ненадолго обращается в своих произведениях к годам фашистского господства — о них уже многое сказано и в литературе антифашистской эмиграции, и в литературе ГДР, и в лучших книгах писателей ФРГ. Однако Хайну до боли ясно, какие глубокие и трагические следы оставили эти двенадцать черных лет в жизни немцев. Именно здесь исток тех горестей и неурядиц, какие довелось перенести разнообразным персонажам цикла рассказов «Из альбома городских пейзажей Берлина». Соотнося настоящее с не столь давним прошлым, Хайн повествует о судьбах рядовых берлинцев, «маленьких людей», — одни погибли, другие, пройдя после войны через различные испытания и кризисы, нашли себя в условиях нового строя. Эти перемены в судьбах людей рисуются как процесс многотрудный, далеко не безболезненный. В одной из критических статей о творчестве Хайна эти маленькие рассказы сравниваются с миниатюрами Анны Зегерс из ее цикла «Мир», написанного в начале 50-х годов. Сходство тут, скорее всего, в лаконизме стиля, в том, что люди и события даны как бы пунктиром, без детализации. Но Кристофа Хайна больше занимают судьбы не вполне обычные, подчас редкостные, и те конфликты, иногда явные, иногда подспудные, которыми была насыщена жизнь демократической Германии первых послевоенных лет. В этом смысле его маленькие рассказы, взятые вместе, сопоставимы не столько с циклом Зегерс «Мир», сколько с ее романами о первых годах существования ГДР — «Решение», «Доверие».
Читать дальше
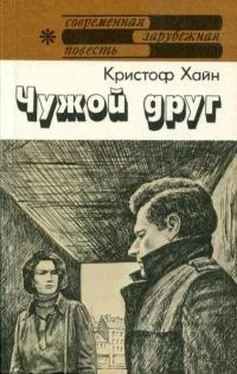
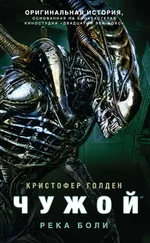
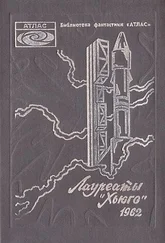
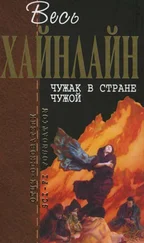
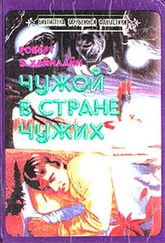
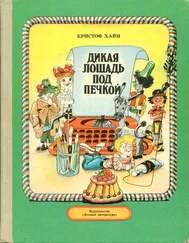

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)