* * *
– «В особенности пегий иноходец со вс», – с выражением прочел Роджер, выходя из дома в галерею с записной книжкой в руках. – Нет, это невозможно, я ничего из этого не выжму. Что это за пегий иноходец? Почему он в особенности?.. Бедные мои записи. «Затем ее прокрывают один раз маслом из льняного семени и приготовляют в горшке». Дальше снова пятно. «Человеку приделывают журавлиные ноги», замечательно; «на тонкую нить подвешивают» – не разобрать, что подвешивают, – «а делается это четырьмя способами». Проклятье. Добрый вечер, викарий, что нового?..
– Я шел в библиотеку, – сказал викарий, – дописать проповедь на погребение, и остановился возле картины. Удивительно, сколько в ее сюжете сходства с нынешними обстоятельствами. Что вы о ней думаете?
– Ночью будет гроза, – сказал Роджер, поглядев на картину. – Это я могу утверждать с уверенностью. А кто ее автор? Конечно, мне говорили, но я забыл.
– Доминик Клотар, – сказал викарий. – Французский художник, начало восемнадцатого века. Весьма плодовитый художник, но «Прерванный праздник» его прославил, и свои последние годы, когда дарование, по выражению какого-то остроумца, покидало его вместе с зубами, он провел, продавая бесчисленные копии известной работы. Это одна из них, и не лучшая. А вы чем занимаетесь?
– Пишу статью об Эмилии, – сказал Роджер. – Вроде некролога, но не то чтобы некролог. Хотелось затронуть в ней некоторые общие вопросы.
– Вы рассчитываете ее опубликовать? – спросил викарий с некоторым сомнением.
– Может быть, в «Ежемесячном развлечении», – сказал Роджер, – а может, где-нибудь еще. Есть много изданий, неравнодушных к вопросам искусства, и в некоторых я желанный гость. Куда ни пишешь, везде можно вставить фразу «Констебл никогда не позволил бы себе подобного»; главное – помнить, в каких изданиях это похвала, а в каких порицание. Вы не могли бы взглянуть на то, что я набросал? Ваше мнение будет для меня драгоценно.
Викарий надел очки.
– Тут наверху нарисована рыба в цветах, – сказал он. – Кажется, это карп.
– Я еще не придумал начало, – пояснил Роджер. – Рассчитывал, что в библиотеке на меня снизойдет кроткое вдохновение сочинителей некрологов, но оно не снизошло. Представьте себе самое трогательное, самое плавное из всех вступлений, какие только бывают, и вообразите, что оно уже там, вместо плотвы. Кстати, это плотва.
– «Беспокойство, неразрывно связанное с ее художническим даром, – прочел викарий, – и контрастирующее с глубокой, придонной безмятежностью того круга сельских событий, в котором замкнулась ее жизнь и предметы ее вдохновения», гм, ну ладно. «Главное для нее во всем – это настроение: оно как луч солнца, внезапно преображающий обыденные вещи – мельницу, флюгер, человека в дверях; как артист, в знакомом монологе ставящий ударение на слове, которого мы привыкли не замечать; но она вынуждена облекать эти настроения телесной очевидностью, чтобы другие могли разделить их». Это очень мило, мистер Хоуден, но я боюсь, что очевидное несоответствие между пышностью ваших выражений и скромностью того, что осталось после бедной Эмилии, произведет не совсем тот эффект, на который вы рассчитываете.
– Сейчас уже не пишут «оплачем в ней погибшие надежды» и тому подобное, – пояснил Роджер. – Приходится выражать эту мысль другими способами.
– «Эта горячая даль летнего полдня, с пышными, вянущими венками из случайных трав, эти фантастические грабли, прислоненные…» Кажется, я не понимаю.
– У нее есть картина с граблями, – пояснил Роджер. – Эдвардс дал ей пару штук; она обещала, что не сломает. Потом все натыкались на них в самых неожиданных местах. Очень трогательное полотно.
– Пусть так, – пробормотал викарий и продолжил читать: – «Мне вспоминается легенда об одном итальянском художнике, которому предстояло украсить кладбищенскую стену историями о долготерпеливом Иове. Он заметил, что та сторона стены, где он должен был работать, обращена к морю, а потому всегда влажна и точится солью, приносимой морскими ветрами, и предвидел, что из-за этого его краски в скором времени поблекнут и истребятся. Поскольку все, что он мог противопоставить морю, были его предусмотрительность и искусство, он делал грунт из известки и толченого кирпича всюду, где собирался писать фрески, дабы сохранить свою работу в первоначальной свежести. Видевшие его работу по прошествии долгого времени, когда к былым утратам Иова примешались те, в которых нет утешения, – и еще большего времени, когда свет окончательно померк и на стене не уцелел никто, чтобы возвестить о нем, – видевшие это могли бы задуматься о разнообразии и недостаточности тех усилий, которые мы вкладываем в борьбу с забвением, равно как и о невозможности различить, где именно внушения неразборчивого тщеславия граничат с неистребимой и благородной жаждой бессмертия». Это хорошо сказано, очень хорошо, но не очень понятно, из чего вытекает.
Читать дальше
![Роман Шмараков Автопортрет с устрицей в кармане [litres] обложка книги](/books/398251/roman-shmarakov-avtoportret-s-ustricej-v-karmane-l-cover.webp)

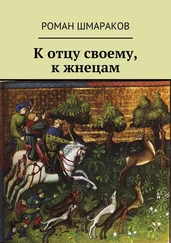
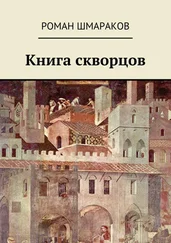

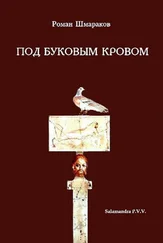
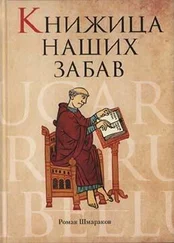

![Светлана Нехай - Денежный поток в кармане [litres]](/books/412486/svetlana-nehaj-denezhnyj-potok-v-karmane-litres-thumb.webp)
