Не знаю точно, когда именно я почти сдалась. Я дрожала всем телом; я была скорее разбита, чем расстроена, и скорее разочарована, чем расстроена; я думала, мы друг друга не поняли. Потом я позвоню ему, и выяснится, что ему что-то помешало или он перепутал место встречи; возможно, он сидел на чемодане на другой парковке, совершенно растерянный. Я выехала обратно на улицу и проехалась по Л., медленно приблизилась ко второму выезду из города; там не было парковки, и я не увидела никаких стоявших людей, но подумала, что он, наверное, уже вернулся домой; а может, зашел сначала в офис, чтобы занести чемодан. Шел уже шестой час, я каталась в темноте, а потом развернулась и поехала домой – больше мне ничего не оставалось. Нужно было как-то скоротать время до десяти. Тогда он придет в офис, и я смогу позвонить; это разрешалось только в случае крайней необходимости, но сейчас и была самая крайняя необходимость. Мне казалось, что этого момента ждать придется гораздо дольше, чем чего-либо прежде; я просидела три часа одна в темноте, но уже считала минуты до избавления. Я слышала, как он засмеется в трубку и скажет: «Сладкая моя, что ты наделала»; слышала его шепот и нежности; видела, как медленно осяду с трубкой в руке, слышала, как буду себя ругать, и видела, как мы оба будем с улыбкой вспоминать эту ужасную, бессмысленную ночь. Я слышала, как расскажу ему о многочасовом ожидании, и знала, что будет тяжело умолчать о своих надеждах и фантазиях. А еще знала, что не смогу скрыть от него свои страхи, но мне будет совершенно все равно, потому что все уже окажется позади.
Когда я подъехала к дому, то увидела свет. Еще и полшестого не было, никто так рано не вставал. Возможно, Ирми не могла заснуть, так иногда бывало, из-за давления; тогда она сидела на кухне, пила чай с шиповником, читала телепрограмму или вязала. Она не тронет письмо, как и Даниэла, но та всегда спала сном подростка, глубоким и беззаботным. Я осторожно припарковалась в гараже, запихнула в сумку карту Италии и положила пальто на заднее сиденье, на зеркало. Багаж я оставила в машине. Пахло машинным маслом и немного железом, и было еще почти совсем темно, когда я сделала несколько шагов до двери. Медленно повернула ключ в замке, вдруг почувствовала ужасную усталость и сказала себе – ну, теперь держись, впереди еще почти двадцать часов; и порадовалась, что не оставила на работе никакую записку. Это молчаливое расставание можно было продлить, нужно только продержаться до десяти утра, и никто ничего не заметит. Ирми ничего объяснять не придется, она никогда не задает мне вопросов, на которые не хочется отвечать; все будет совсем просто. Я повесила в коридоре куртку и тихо открыла дверь в кухню, но на скамье сидел Эрнст.
Я удивилась, но шока не испытала и подумала: «Ты меня не испугаешь». Он стоял прямо передо мной и был выше на две головы, а ведь я сама не самого маленького роста. Он смотрел пристально – не испытующе, а внимательно, – возможно, по привычке. Еще прежде, чем он успел представиться, я поняла, кто он такой; пригласила его войти и предложила кофе, который он пил с молоком и сахаром, это запомнилось мне, потому что показалось слишком калорийным для такого стройного человека. Он был немного смущен, а я даже не собиралась ему помогать; я ждала и пыталась скрыть враждебность и неуверенность; я ведь не могла знать, чего он хотел. Через полминуты молчания он заговорил сразу о деле; я точно должна была о нем читать или слышать. «Читала, – ответила я, – такое сложно пропустить, в газете пишут почти каждый день». Значит, вы точно, – сказал он, беспокойно оглядывая комнату, блуждая светлыми глазами по вышитой картине Ирми над диваном, местному пейзажу, написанному маслом, портретам моих родителей и фотографии с двадцатилетия кегельного клуба, – значит, вы точно читали о наших предположениях по поводу связей погибшего с проституцией». – «Читала, – ответила я и не смогла сдержать улыбки: – И что, они приводят ко мне?» – «В некотором смысле, – ответил он, внимательно посмотрел в окно и повернулся ко мне. – Я предполагаю, что мои слова удивят вас и даже шокируют, но больше мне ничего не остается; этого не избежать».
Он прочитал письмо. Я смотрела, как он сидел, немного согнувшись, согнувшись и оцепенев, а перед ним лежал сложенный лист бумаги и открытый конверт. Когда он поднял на меня взгляд, совершенно растерянный, отстраненный от боли и разочарования, мне пришло в голову выдать все это за помешательство, каприз, чуть более экстравагантный, чем обычно, внезапную ночную автопрогулку, гормональное расстройство, нечто абсурдное, что может уладиться уже в утренних сумерках. Фантазия у него была небогатая – возможно, ее не было вообще, – но он знал, что бывает правда, которая живет всего несколько часов, которая способна существовать лишь ночью, а при свете дня мы не только раскаиваемся, но и перестаем понимать ее, потому что были пьяны или потому что разругались вдрызг, ведь это всегда происходит посреди ночи, когда натянуты нервы, выпито слишком много алкоголя, после дня рождения или большого праздника, который прошел не настолько весело, как планировалось; наконец, кто-то должен устало сказать – «просто пойдем спать», а утром человек осматривается и не может даже вспомнить того, что казалось таким важным еще несколько часов назад, из-за чего он гневно ругался полночи. Это могло стать выходом из положения, он бы наполовину поверил мне, а наполовину – захотел бы поверить; мне следовало сказать – «Давай вернемся в кровать, я все объясню». Я могла спасти ситуацию, но этого не сделала. В момент, когда я опустилась рядом, словно на крупных переговорах, взяла стакан воды из-под крана и молча посмотрела на мужа, в тот момент я упустила шанс отогнать катастрофу. Я этого не сделала; он спросил, почему я вернулась, и я ответила: он не пришел. Я не пыталась солгать, потому что не чувствовала в этом необходимости; мне бы хватило сил и самообладания что-нибудь сочинить, но я подумала: с чего бы. Он тяжело вздохнул; я видела, он пытался понять, что это значит, спросить не решался. «Я потом позвоню ему, – сказала я, – мы просто разминулись; это ничего не меняет». Я дрожала, пока говорила эти слова, и сомневалась, хочу ли сама в них верить, но знала, что история с Михаэлем для меня гораздо, бесконечно важнее этого изможденного мужчины на скамейке в кухне, и не хотела ничего менять. Еще я не хотела, чтобы он заметил мой страх, постепенно перерастающий в панику; это его совсем не касается; я сказала себе: «Продержись еще несколько часов, и все будет позади, не сдавайся». Но это не помогало. «Хочешь сказать, – уточнил он, – что ты хотела сбежать с человеком, а он все перепутал и пропустил встречу?» Оставив письмо с порванным конвертом, он тяжелыми шагами направился вверх по лестнице; я осталась на месте. Потом сожгла в раковине письмо, включила кофемашину и сидела за кухонным столом, пока по лестнице не спустилась Ирми.
Читать дальше
![Эльке Шмиттер Госпожа Сарторис [litres] обложка книги](/books/397564/elke-shmitter-gospozha-sartoris-litres-cover.webp)
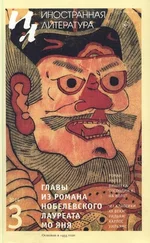

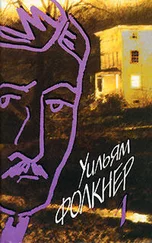

![Мелани Бенджамин - Госпожа отеля «Ритц» [litres]](/books/384861/melani-bendzhamin-gospozha-otelya-ritc-litres-thumb.webp)
![Кира Стрельникова - Госпожа повариха [litres]](/books/388711/kira-strelnikova-gospozha-povariha-litres-thumb.webp)
![Георгий Смородинский - Рыцарь Госпожи Смерти [СИ litres]](/books/388927/georgij-smorodinskij-rycar-gospozhi-smerti-si-lit-thumb.webp)
![Виктория Полечева - Тюльпинс, Эйверин и госпожа Полночь [litres]](/books/391298/viktoriya-polecheva-tyulpins-ejverin-i-gospozha-poln-thumb.webp)
![Милена Завойчинская - Госпожа управляющая [litres]](/books/393031/milena-zavojchinskaya-gospozha-upravlyayuchaya-91-litre-thumb.webp)
![Кира Стрельникова - Госпожа принцесса [litres]](/books/430427/kira-strelnikova-gospozha-princessa-litres-thumb.webp)
![Макс Мах - Госпожа адмирал [litres]](/books/435913/maks-mah-gospozha-admiral-litres-thumb.webp)
