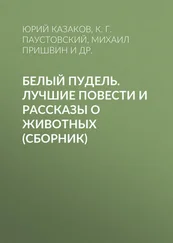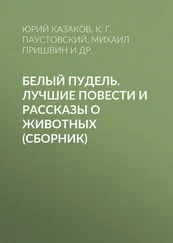Шёл дождь. Птицына стояла на веранде, глядя в мутное окно в частом переплёте. По стёклам ползли осьминоги. Дачница утирала слёзы и повторяла: «Веранда влажная шипит в дожде, как сковородка, веранда влажная шипит в дожде, как сковородка».
— Да, Елизавета Андреевна, зажили бы в Сковородке! Как было бы хорошо, как было бы правильно, Елизавета Андреевна!
— Сергей Петрович, я не могу. Вы очень хороший, вы добрый человек, но я не смогу с вами. Мне кажется, что моё место не здесь.
— Где же ваше место, Елизавета Андреевна?
— Не в Топорке, не в Сковородке. Не знаю где. Я хочу уехать.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Елизавета Андреевна, я желаю вам счастья. Давайте забудем этот разговор. Вы только помните, что кто-то вас очень любит и ждёт в Сковородке.
Илюшин стал громко сморкаться. Мобик жалобно заскулил.
Гане не говорили о трагических обстоятельствах смерти родителей. Он понимал, что с ними случилось что-то дикое, страшное, но не задавал вопросов, сам строил догадки. Про отца никто ничего не знал. Зато Ганя хорошо представлял себе маму — про неё много рассказывали Птицына с Николавной. Всю жизнь, засыпая и просыпаясь, он первым делом видел Дусю, которая весело ему улыбалась и махала рукой. У Гани с мамой были самые доверительные отношения, он ей рассказывал обо всём без утайки, она его понимала и всегда поддерживала в трудную минуту. Фотографий было много: маленькая девочка среди грядок — в кофте и рейтузах, школьница с большими бантами у скучной кирпичной школы, красивая девушка у Казанского собора — с гитарой, в ушанке. Также были снимки вместе с ним, Ганей. На одном она с большим животом сидела на скамейке у избы. Было подписано Дусиной рукой: «Когда ждала». На другом — стояла у родильного дома со свёртком в руках; подписано было: «Сынок».
В шкафу у Николавны висело Дусино платье. Ганя «забрал его себе», хранил под кроватью, иногда таскал в портфеле. В двенадцать лет он достал из тёткиных комодов все Дусины вещи и тоже «забрал себе». Потрёпанные материнские джинсы и футболки с надписями «Гражданская оборона», «Кино», «Алиса» Ганя носил. Однажды Наташка, прорубая ход в культурном слое помоечных вещей, заполонивших квашнинский дом, обнаружила коробку с Дусиными кассетами и стопку тетрадей, в которые Дуся записывала тексты и аккорды песен. С бьющимся сердцем Ганя унёс это сокровище к Птицыной, слушал, читал, заливался слезами.
— Птица, почему мама любила такие грустные песни, такие грустные стихи?
— Ну какие грустные, Ганечка? Мама ведь была весёлой.
— Послушай, Птица. Что может быть тоскливее этого?
Светлые мальчики с перьями на головах
Снова спустились к нам, снова вернулись к нам с неба.
Их изумлённые утром слепые глаза
Просят прощенья, как просят на улицах хлеба...
— Какие страшные мальчики! Зачем мама про них пела? А вот ещё, слушай:
В каждом доме
Побитый молью привычный шёпот,
Забытых кукол смиренный глянец,
Угрюмым скопом мышиных скрипов
Зола ютится в углу портрета...
— Птица, в каждом доме — «нагие формы избитых звуков». Птица, мне очень тяжело это читать. И музыка — грустная, мучительная. В этих песнях мир такой холодный, такой бесприютный. Я не могу это выносить.
Перебирая кассеты, Ганя нашёл несколько фотографий себя взрослого с мамой. На одной они шли в пустынном месте — по тропинке вдоль узкой речки. Подпись: «Мы с Жирафом в Автово». На другой — курили у незнакомого дома, на котором было криво намалёвано: «Морской Пехоты 4». На третьем снимке Ганя стоял с мамой и каким-то длинноволосым человеком в очках у грязного жёлтого дома на Малом проспекте. Ганя сразу узнал этот дом: рядом с ним была остановка, где они с Николавной обычно садились в автобус. Одной рукой Ганя обнимал маму, в другой держал гитару. У очкарика под мышкой был тамбурин. Подпись: «Мы с Жирафом и Коля Иванов. Концерт в Тамтаме».

Ганя долго смотрел на родителей. Без сомнения, это были самые красивые и хорошие люди на свете. Ему очень хотелось обняться с ними и поговорить. Ганя вырезал себя из фотографии 7 «б» класса и аккуратно вклеился у их ног.
Он пошёл в жёлтый дом на остановке, надеясь, что там ему расскажут что-нибудь про отца или хотя бы про Колю Иванова. Но дом был пуст, нем, закрыт, окна занавешены. На стук никто не отвечал.
Читать дальше
![София Синицкая Повести и рассказы [Авторский сборник] обложка книги](/books/397363/sofiya-sinickaya-povesti-i-rasskazy-avtorskij-sborn-cover.webp)


![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)



![Александр Абрамов - Всадники ниоткуда. Повести, рассказы [Авторский сборник]](/books/419741/aleksandr-abramov-vsadniki-niotkuda-povesti-rass-thumb.webp)