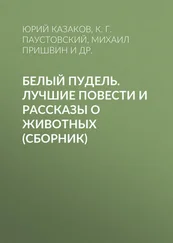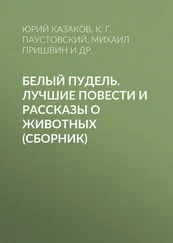— Но Сергей-то Петрович только им и питается, и он очень сильный, здоровый.
— Сергей Петрович особенный, тебе до него далеко...
Ганнибал тоже был особенный, во всяком случае, так считали в музыкальной школе. Он стал лучшим учеником, победителем всех конкурсов, на которые его посылала тщеславная фея. Старуху удивляло музыкальное чутьё Гани, его упорное стремление понять, что именно хотел выразить композитор в произведении и как это произведение на самом-то деле следует играть. Юный Ганя по-своему расставлял музыкальные акценты, и хрестоматийная вещь начинала звучать по-новому. Поначалу фея злилась, что Ганя своевольничает, но мальчик так убедительно, так страстно доказывал ей правильность своего понимания музыки, что она махнула на него костлявой рукой. «Тут надо просить, тут требовать, тут бояться и убегать, а здесь нырнуть, затаиться, потом оттолкнуться, вынырнуть и лететь, лететь, а потом раствориться в воздухе», — говорил он фее, тыча чёрным пальцем в партитуру. Для Гани в музыке не было никакой беспредметности, он очень чётко видел цвет и форму звуков, которые, сливаясь, создавали в его голове живые образы, пульсирующие геометрические пространства и строения причудливой архитектуры. Музыка стала для него сверхреальностью, музыкальный мир он ощущал чётче, яснее, чем всё то, что окружало в обыденности.
Птица была в восторге от Ганиных успехов. Николавну же его увлечение музыкой беспокоило. Она считала, что талантливых людей подстерегают всяческие опасности и жизнь их редко складывается ровно и спокойно. Доброй Николавне хотелось бы, чтобы её «такой хороший» мальчик был попроще, как все. Кроме того, ей не нравилось, что Ганя с его прекрасной памятью и сообразительностью совершенно равнодушен к школьным предметам. Он неплохо учился, но не скрывал, что русский и математика нагоняют на него скуку.
Одноклассники любили Ганю за его доброту, остроумие и особенно шутовство, к которому он имел какую-то странную, нервическую склонность и от которого никак не мог удержаться. Когда кто-то из потерявших терпение учителей орал на ребят, Ганнибал Квашнин в комическом ужасе приседал, закрывшись руками, напяливал на голову полиэтиленовый мешок и, приняв образ испуганной обезьяны, начинал метаться по классу. Даже очень усталые учителя хохотали до слёз, не говоря уж о детях.
Самым неприятным уроком для Гани была химия. Тощая как смерть Зоя Васильевна в неизменном чёрном туалете, кудрявом паричке и туфлях с огромными пряжками, взойдя на высокую кафедру, совершала опыты. «Был “па!”. Все слышали “па!”? Квашнин, ты слышал “па!”?» Ганя не слышал никакого «па!». В джунглях, по узкой тропе, протоптанной дикими свиньями, он продвигался с путешественником Бэссетом к Красному Божеству. Обрубками пальцев сжимая свои браунинги и сачки естествоиспытателей, они шли на странный звук, который будто пытался сообщить им некую космическую тайну, нечто бесконечно важное и ценное.
На самом интересном месте подкравшаяся химичка прервала их драматичный путь. Она выхватила книжку, спрятала её где-то за кафедрой, сказала, что отдаст только Николавне лично, и влепила Гане двойку в журнал. Ганя пришёл в ярость. Это был старый и очень ценный Джек Лондон Николая Ильича, с «ерами» и «ятями». И совсем не хотелось огорчать Николавну. Ганя встал из-за парты и начал, хромая, медленно приближаться к кафедре Зои Васильевны. При этом он совершал в высшей степени неприличные жесты и строил дикие гримасы. Зоя Васильевна окаменела от ужаса и удивления. Класс покатывался со смеху. «Квашин, ты что — идиот?» — ледяным тоном спросила Зоя Васильевна, потом подпрыгнула и побежала за директрисой. Ганя добрался до кафедры, нашёл своего Лондона и стал громко читать притихшим соученикам:
«Опять этот рвущийся ввысь звук! Отмечая по часам время, в течение которого слышался этот звук, Бэссет сравнивал его с трубой архангела. Он подумал о том, что стены городов, наверное, не выдержав, рухнули бы под напором этого могучего, властного призыва. Уже в тысячный раз Бэссет пытался определить характер мощного гула, который царил над землёй и разносился далеко кругом, достигая укреплённых селений дикарей. Горное ущелье, откуда он исходил, содрогалось от громовых раскатов, они всё нарастали и, хлынув через край, заполняли собой землю, небо и воздух. Больному воображению Бэссета чудился в этом звуке страшный вопль мифического гиганта, полный отчаяния и гнева. Бездонный голос, взывающий и требовательный, устремлялся ввысь, словно обращаясь к иным мирам. В нём звучал протест против того, что никто не может услышать его и понять...»
Читать дальше
![София Синицкая Повести и рассказы [Авторский сборник] обложка книги](/books/397363/sofiya-sinickaya-povesti-i-rasskazy-avtorskij-sborn-cover.webp)

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)



![Александр Абрамов - Всадники ниоткуда. Повести, рассказы [Авторский сборник]](/books/419741/aleksandr-abramov-vsadniki-niotkuda-povesti-rass-thumb.webp)