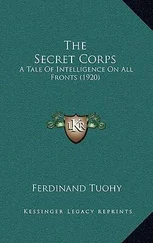Нас это, повторяю, сильно поразило.
Пани Блажена работала не покладая рук: брала нас с краю, укладывала в чемодан, перекладывала, выкладывала, снова вкладывала, пока наконец не оказались мы в ужасной теснотище. Не все, только шестеро: «Johnnie Walker», «Larsen», «Marie Brizard», «Queen Anne», «Black and White» и я. «Martel», «Hankey Bannister» и «Ballantine’s» отправились снова на полку, пани Илавская уже не смогла их в эту теснотищу впихнуть.
На следующий день услыхала я шум шагов — наш чемодан все время кто-то таскал взад-вперед.
— Что тут у тебя? — раздался надо мной испуганный голос юбиляра Илавского. — Жуткая тяжесть! Блажка, слыханное ли дело! Сама же вечно ноешь, что таскаешь домой тяжеленные сумки… А это — ужас до чего тяжело…
— Не выдумывай! — сказала пани Блажена.
— Правда, тяжело!
— Уж какая там тяжесть? — удивилась пани Блажена. — Ничего особенного! Все мелочи! То да се! Как-никак на полтора месяца еду! То одно нужно, то другое! А по-твоему, как?
— Да вроде бы так!
— Ну вот видишь…
Происходило это, наверно, тогда, когда юбиляр Илавский, помогая грузить наш чемодан и другие в такси, провожал пани Блажену в Карловы Вары.
Потом я уже не слыхала никаких разговоров, которые бы касались меня или кого-то из нас, до меня доносился только шум улицы… И вот я попала в Карловы Вары, в гостиницу. Сколько было всяких толчков — справа налево, слева направо, вперед, назад, сверху вниз, все-то в нас хлюпало, плескалось, — пока наконец пани Блажена не вынула нас из чемодана и не поставила — на сей раз не в «хранояде», а на самой нижней полке шкафа в своем номере.
Пани Блажена поставила нас там и занялась лечением своих восьми больных органов — это занимало у нее весь день.
Стояли мы там, на нижней полке этого шкафа, вшестером и перешептывались о самых разных вещах. А чем еще можно было заняться в такой темноте и одиночестве?
— Да, — сказал однажды «Johnnie Walker», — тут темно и тоскливо. Я шагаю, шагаю, и ни с места. К чему мне теперь мои длинные ноги? Но скажу вам, уважаемые друзья, не хотел бы я попасть к этой пани в желудок.
— Тесно здесь, узко! — подтвердил «Larsen». — Хорошо бы в необъятное море, море, море!
Я с ним согласилась и уж было хотела вступить в разговор.
— А знаете, почему мы здесь? — спросила «Marie Brizard», голос у нее был старческий, колючий, въедливый. — Пани Блажена решила, что до последнего своего и мужниного вздоха не будет доверять мужу. Испугалась, что ее юбиляр разопьет нас с приятелями или с какой-нибудь молоденькой подружкой, — вот она и упаковала нас и притащила сюда. Не бойтесь, мы не попадем в ее больной желудок! Не думаю. Как только кончится предписанное ей лечение, она опять уложит нас в чемодан и отвезет домой. Снова поставит нас в «хранояду» и не спустит с нас глаз — упаси бог попасть нам не по тем адресам, какие висят у нас на горле. Я сочувствую пани Блажене и считаю, что она права на все сто, je comprends madame Блажена très bien! [36] Я понимаю мадам Блажену очень хорошо! (франц.)
— добавила она на своем, впрочем и моем, родном языке.
— Так оно, пожалуй, и есть, — согласился «Larsen». — Насколько я знаю людей… Море — наша стихия, и как же печально — из необъятного моря оказаться в такой темноте!
Бутылка «Black and White» залаяла, из нее отозвались черная и белая собачонки.
Шкаф, где мы находились, вдруг отворился, горничная выставила нас на стол, вынула нас всех из коробок, а вместо нас вложила в эти коробки такие же точно бутылки, как мы, но только с водой, поснимала с нас бирки с именами и датами, сняла и мою — «13 мая. Матей Мазур». Бутылки с водой поставила в шкаф в прежнем порядке, а нас в спортивной сумке отнесла к себе в комнату.
Боже, что случится, когда правда выйдет наружу? Что скажет юбиляр Илавский и жена его, пани Блажена, и каково будет Матею Мазуру? Я не в силах была даже представить себе, как это наше перемещение, эти изменения отразятся на всех троих. Да и каково остальным пятерым, указанным на бирках? Вам смешно? Мне тоже, уважаемые коллеги, но что делать? Осторожность пани Блажены была, несомненно, преувеличена, раздута, не знала меры — и все получилось навыворот. Не только юбиляр Илавский не выпьет меня со своими приятелями и подружками, беспокоилась я, но уже никогда не вернуться мне в «хранояду» к пани Блажене, не попасть даже к Матею Мазуру, как полагалось. Об этих людях мне оставалось лишь вспоминать и представлять их себе, особенно этого пана Мазура, вероятно, родившегося тринадцатого мая. А уж что скажет пан Мазур, выпив вместо моего коньяка карловарской воды, — я боялась даже предположить.
Читать дальше