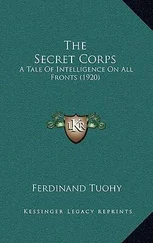— Первоклассный!
— Вот именно! А разве нет?
— Оценить?!
— Да, Блажка.
— Оценить можно только то, что имеет положительную ценность. А все это ценности не имеет, потому что это яд. И яд этот отравляет тебя и физически и психически. О какой ценности, о какой оценке ты говоришь?
— Ты права, Блажка, — сказал юбиляр Илавский, уступая жене, — ты права, как никогда! Но рассуди! Я человек точный, ты тоже, мы с тобой точные люди! И у нас есть знакомые, дни рождений, именины, и не только у меня, а если позволишь, и у всех наших знакомых, близких и дальних. Вот что, Блажка, давай с тобой сядем и составим список, когда и кого мы должны поздравлять и что мы возьмем из этого редкостного ассортимента. Не сердись, но я бы даже осмелился на каждую из этих бутылок повесить листочек с именем и датой, да и адрес не помешал бы. И составил бы эдакий личный, индивидуальный планчик. Теперь без плана и личная жизнь идет туго. Говорю тебе от души, Блажка, поверь мне! Мне эти напитки ни к чему, потому и предлагаю тебе: личный, индивидуальный планчик…
Все так и было, уважаемые коллеги.
Супруги Илавские, юбиляр и пани Блажена, сели — с карандашом в руке и бумагой перед собой — и составили этот личный, индивидуальный планчик надолго вперед. Насколько точно — не помню. Да и не в этом дело, главное, что бутылки с вином и те, низкосортные, должны были остаться дома, а мы были определены, размечены, как положено, и теперь каждая из нас знала точно, когда и к кому пойдет: на горлышко нам привесили по бирке с указанием имени и даты. На моей бирке стояло: «13 мая. Матей Мазур». Никакими дополнительными сведениями ни о дате, ни о Мазуре я не располагаю — это знали, вероятно, только супруги Илавские, но вполне возможно, что 13 мая у Мазура был день рождения, а сам он числился среди знаменитых, выдающихся друзей супругов Илавских. Нас, исключительных, вместе с бирками засунули в коробки, и коробки закрыли.
На кухонном столе стояло нас, помеченных и запланированных, штук тридцать, а то и больше, с бирками на горле всего только девять. А потом супруги Илавские соответственно стоимости разместили нас на стеллаже в «хранояде». Погасили свет и «хранояду» закрыли. Но прежде чем это случилось, между ними произошел очень любопытный разговор о том, что шпайза [35] Шпайза — чулан, кладовая (нем.) .
, дескать, неверное слово, чужое, примитивное, что это, дескать, следы косности.
— Это, должно быть, немецкое слово, — сказала пани Блажена. — А как, по-твоему, правильно? Как надо говорить?
— Да, это немецкое слово, — согласился юбиляр Илавский, — а говорить надо: помещение для хранения еды.
— Да ты что?
— Да, это так должно называться.
— Значит, поставим это в помещение для хранения еды?
— Вот именно!
— Но разве это еда? — Пани Блажена махнула рукой и указала на нас. — Еда? Вот это?
— А что, по-твоему?
— Нет! Уж если быть точной — то это все яд, отрава, а не еда… Если бы было по-твоему, в шпайзе висели бы сосиски, колбасы, сало, ветчина… Нет, нет, это помещение для хранения яда. Да и звучит неловко, громоздко — надо бы как-то иначе назвать!
— А как, скажи на милость?
Обе головы напряженно работали.
— Помхраноеда! — обрадованно предложил юбиляр Илавский.
— Помхраноеда? — спросила пани Блажена. — И это тебе кажется удачным? Это тоже неудачно и, главное, не отражает сути. Помхраноеда, выдумал тоже!
— А как тогда, Блажка? Об одном прошу тебя, не доводи меня до крайности.
— Мы же согласились на том, что это не еда, а яд! С этим-то ты согласен, а?
— Да.
— Ну вот!
— Так как же назовем?
— Хранояда! — объявила решительно пани Блажена.
— Хранояда?
— Да, именно!
И вот, уважаемые коллеги, стояла я в «хранояде» на стеллаже и, насколько помню, в неплохой компании. В очень даже хорошей… Нас вместе было девять бутылок — я уже о них говорила. Остальные стояли в другом месте, на нижних полках, под нами. Не смотрела я на них, и уж если по совести, то не очень-то о них и беспокоилась.
Что потом делали супруги Илавские, юбиляр и пани Блажена, да и все те, кто проживает в этой квартирной клетке, не знаю. Поле моего зрения маленькое, это, собственно, шар, сфероид, и у него примерно трехметровый радиус, правда, длинней не бывает. А все, что за этими тремя метрами, я вижу очень слабо, и то, что сейчас скажу, основано лишь на догадках, более или менее точных. Как бы там ни было, но думаю, что пани Блажена, поставив нас в «хранояде», стала собираться в Карловы Вары и, верно, укладываться. Из их разговоров с юбиляром знаю, что она отправлялась на лечение, лечить восемь внутренних органов, на которые навалились болезни. В этих вещах, уважаемые коллеги, я не разбираюсь достаточно хорошо, знаю только, что человечье нутро сложнее, чем наше, и больше подвержено всяким расстройствам. В моем нутре теперь всего лишь тормозная жидкость. Некоторым, у кого тормоза еще есть, она бы пригодилась, — вон и тому пану Мико пошла бы на пользу, не повредило бы ему проверять свое тормозное устройство и подбавлять в него этой жидкости… И прокладки ему бы не мешало проверить, не пропускают ли кой-какие… О людях скажу: если хоть на один из человеческих органов навалилась болезнь, не поможет даже такое прекрасное зелье, какое было во мне. Ничуточки, а уж в большом количестве — и подавно! Говорю об этом лишь потому, что меня сильно поразило, когда пани Блажена пришла в «хранояду», стала около нас и сказала: «Пожалуй, я и вас упакую — умнее ничего не придумаешь».
Читать дальше