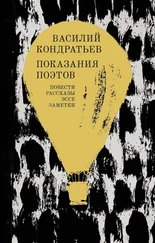Вот повод, по которому я задумался над тем, что сновидения на самом деле представляют собой совершенно действительную часть жизни, поскольку они могут вызывать такие же глубокие сомнения и быть такими же иллюзорными, как собственно действительность. Однако что такое была эта моя знакомая, если я её видел во сне точно таким же образом, как всех моих знакомых людей: в том искажённом нелепом виде, который может только точно свидетельствовать о том, кто тебе снится, и ничего не сказать о нём, кроме твоих собственных затаённых мыслей. Я начал этот рассказ с того, что это была не фантазия ; к тому же это не было сном: я всего лишь увидал её пару раз во сне, как вижу многих. То ли ещё было.
Вот что произошло со мной снова глубокой осенью – хотя не стану грешить, что я точно помню, была это осень, зима или весна, потому что мой образ жизни и петербургский климат дают мне все основания сомневаться. Во всяком случае, семь лет тому назад. В те времена на Невском проспекте всё было для меня ещё громко, потому что мы с приятелями всё ещё могли встречаться в маленьких барах и кафейницах, разбросанных от Литейного проспекта и за вокзальную площадь. В одну такую вальпургиеву ночь , когда вода хлещет с неба и отовсюду, а улицы представляют собой нечто вроде сплошной груды зеркальных осколков, я расстался со своими приятелями и отправился плутать. Это был такой вечерок, что достаточно сказать – Гриша Рабинович вообразил, что он кот, мяукал ночью отчаянно и пробовал изодрать беднягу Коровина… Я очнулся в трамвае, который катил по Геслеровскому проспекту. От хмеля не было следа, я открыл глаза, чтобы увидать перед собой компанию старух, которые ждали, по всей видимости, моего пробуждения, и накинулись на меня за всё, что им пришлось терпеть в жизни. Я пробовал возражать, я сопротивлялся; одна из них врезала мне палкой; они вышли из вагона, оставив меня смотреть в пол. Через остановку трамвая я заметил, что сбоку стоит женщина. Она была одета в чёрное, как одевались многие мои приятельницы, в длинной юбке под жакет и с невероятно завёрнутым платком. Вагон подошёл к другой остановке. Она подошла, встала прямо передо мной и положила мне руки на плечи. Поцеловала меня в лоб и вышла. Ну, это была она. Я даже рассмотрел, как она зашла во двор одного из домов на Гатчинской, кажется, улице. Выскочил на следующей, помчался туда. Куда там. Это был такой же тёмный глухой двор, как тот, с которого всё началось, плотно обсаженный узкими окнами и с одинаково бессмысленными чёрными дверями.
………………………………………………
Ну вот, дорогой друг, я добрался только досюда. Мне уже надо вскочить и бежать сломя голову к поезду, где я должен передать эту дискетку твоей знакомой. Я не успел тебе рассказать, что было ещё дальше, как она мне встречалась на улице и как потом (только не смейся) была со мной в виде других женщин, одна из которых, кстати, стала одной из моих лучших подруг. Может быть, я успею сказать ещё одну вещь. Джорджо Де Кирико когда-то очень смешил публику, когда совершенно серьёзно рассказывал, что с детства встречает духов , которые бродят между людей, и одним из этих духов даже бывал его парижский галерист, Поль Гильом! Так вот, это правда, я теперь хорошо знаю, что это такое и как это бывает. Надеюсь успеть к поезду. Твой В. К.
<
3 марта 1998 >
Bizarre 73
Тезисы для статьи
Эта статья задумывалась как комментарий к проекту петербургских художников Марии Заборовской и Ника Шютце «Меланхолия анатомии», выставка которых должна была состояться в галерее Navicula Artis (на выставку, конечно, не собрали денег). Речь идёт о серии графических работ большого формата; они стилизованы под гравюры из анатомических пособий XV–XVI веков «в манере Дюрера» и посвящаются фантастическим существам, например: кентавр, сирена и т. п. На каждом листе «натуралистический портрет» такого мифологического создания совпадает с подробным изображением его анатомии, наиболее привлекательные и невероятные детали которой выделяются в отдельные картуши или на свитках в руках персонажей. Говоря коротко, достаточно тонко и точно передавая вид старинного анатомического атласа, Заборовская и Шютце сообщили ему элегантное сюрреалистическое звучание.
Поскольку автор этих строк не искусствовед, а писатель, мои интересы в данном случае распространяются несколько дальше просто художественной критики. С одной стороны, эстетика как старинных коллекций естественных и искусственных курьёзов (сюда же относится интерес к алхимической гравюре XVI–XVII века), так и естественно-научного музея XIX–XX веков, занимает очень видное место в мировом изобразительном искусстве последних 20 лет (можно указать на две такие видные фигуры, как Дамиан Хирст и Патрик Ван Кейкенберг); такой интерес в последние годы заметен и в работе петербургских художников, например у Андрея Хлобыстина, у Ольги и Александра Флоренских (это можно было, в частности, наблюдать в большом кураторском проекте Н. Букреевой в стенах Зоологического музея в 1997 году); в этом смысле, впрочем, Заборовская и Шютце находятся скорее ближе к таким московским художником концептуальной или постконцептуальной школы, как Елена Елагина и Игорь Макаревич или Вячеслав Ефимов, с их любовью к сделанной вещи, «стилизацией под старину» эпохи Возрождения или Просвещения, и подробностью деталей. Однако, с другой стороны, меня интересуют в проекте Заборовской и Шютце ассоциации, которые больше связаны с петербургской жизнью, чем занимающее здесь достаточно маргинальное положение современное искусство. Это, конечно, и место Кунсткамеры в воспитании художественной личности, и своеобразная любовь петербуржцев к фантастике и к романтическому мистицизму, и меланхолический характер здешней культуры. Советское воспитание, построенное на культе материалистической науки, и вместе с тем – жизнь, проникнутая мифами и суевериями. Но самое главное – это специфический эротизм Петербурга, который определяется как сырой холодной атмосферой Северной Венеции , так и чудовищной памятью её истории. Я не имею в виду при этом ничего патологического. Несмотря на очевидную стилизацию под гравюру эпохи Возрождения, в работах из «Меланхолии Анатомии» Заборовской и Шютце присутствует традиция, которая связана с образцами «метафизического» реализма в изобразительном искусстве XX века (поздний Де Кирико, Челищев) и философией меланхолии и, если можно так выразиться, возвышенной странности , лежащих в основе современного мира, где больше нет ясных границ между искусственным и природным, психологическим и физическим. К воспитанию чувств всё это имеет самое прямое отношение. Причём, как писателя, меня в первую очередь интересует рассказ о тех чувственных вещах и той атмосфере быта, которая тут выражается в работах художников вместе с их эстетическим или, там, философским содержанием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
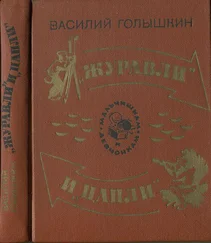

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


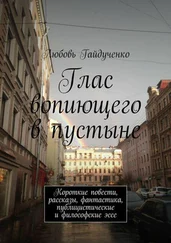
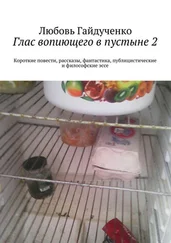
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)