Заявление сие не привело Кузнецова в восторг: белые навсегда оставались врагами красных, проку от них для разведки — как от козла молока, вербовать рискованно: французы держали их на крючке, как потенциальную «третью колонну». Чего изволите? Сущий пустяк: совершить вояж в Калугу, рядом до революции было родовое имение, где ваш покорный слуга появился на свет, но такого маршрута в «Интуристе» нет. И хорошо, подумал Кузнецов, зачем показывать иностранцам затхлую провинцию, если почти каждый месяц взлетают в космос спутники, потрясает Большой театр и функционирует украшенное Золотое кольцо?
— Может, в Москву или Ленинград? — бывший враг советской власти не вызывал у Кузнецова никакого интереса.
— Никогда не выносил столиц! Петербург и Москва — губители России! Хочу перед смертью в родные места…
И вдруг Кузнецов вспомнил патриархальный Елец, наверное, похожий на Калугу, и представил себя старым, почти столетним. Ему казалось, что жить он будет долго-долго, и тосковать и по Парижу, и по Ельцу! Самоуверенный хам из «Интуриста», отказавшийся помочь старику, возмутил его, случается же такое с секретными сотрудниками!
— Хорошо, я попытаюсь что-нибудь сделать для вас, не обещаю, что выйдет, но попытаюсь.
— Спасибо! — старик встал и протянул свою визитную карточку. — Я был бы очень рад, если бы вы согласились отобедать со мной. В русском ресторане, разумеется.
И отобедали. С балалайкой, расшитыми русскими рубашками, с густым борщом и пельменями и прочей клюквой. И старик оказался интересным, читал под борщ Гавриила Державина: « Багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером там щука пестрая — прекрасны». Эрудированный старичок, не жмот.
— Вы когда-нибудь здесь бывали? — спросил Константин.
— Впервые. Все-таки это ресторан врагов народа, — и на юмор Кузнецов был способен, не слишком тонкий, но все же. Старик вздохнул:
— Беда в том, что вы действительно в это верите…
Ну вот, началось! Только еще не хватало копаться в прошлом, ставить под сомнение итоги Гражданской войны и вообще. Зачем лишние слова? Надо поехать, посмотреть на достижения и на жизнь рядовых граждан, на метро и троллейбусы, на новостройки, заглянуть в школы и детские сады. Это в Москве, без нее нельзя. Потом — в Калугу. Говорил заученные фразы, всматриваясь в худющую даму с красной розой на черном платье, она пела со сцены, блеск, а не дама.
Здесь похоронены сны и молитвы,
Слезы и доблесть,
«Прощай!» и «Ура!».
Штабс-капитаны и гардемарины,
Хваты полковники и юнкера.
Белая гвардия, белая стая,
Белое воинство, белая кость…
Влажные плиты травой порастают.
Русские буквы. Французский погост.
Кузнецов славно выпил, размяк, с нежностью заговорил о Париже. О, Париж! И вдруг:
— Никогда не любил этот сутенерский город! Кем только я тут не работал! И таксистом, и рыбьим жиром для свиней торговал! И это я, гвардеец, потомок князей Щербицких! Как я ненавижу всех этих подлецов французов! Вместо того чтобы давать нам деньги и оружие, испугались своих вонючих пролетариев и позорно нас бросили на произвол судьбы. А потом? Тихо и мирно признали большевиков. Убийцу — Ленина признали!
— Но ведь Россия за вами не пошла, — возразил Виктор мягко, боясь обидеть.
— Россия поверила демагогии ублюдков… масонам вроде Керенского, Корнилова, Колчака. Кем они были до государева отречения? Дерьмом собачьим! И вообще наш народ, как воск, — он покорен, глуп и доверчив, это нация детей!
Столь безжалостное отношение к соплеменникам сначала покоробило, а потом он подумал: прав, старик, прав, чего ж обманывать самих себя? Нация разгильдяйская, хотя и добрая: крови проливали поменьше, чем на Западе, подумаете, Иван Грозный порешил тысячи четыре, да ведь гораздо больше вырезали гугенотов лишь в Варфоломеевскую ночь! И вдруг в 1917-м оборзели, залились кровью, подчинились воле большевиков.
— У нас в коммунистической партии другое отношение к русскому народу, — заметил Виктор, но Щербицкий лишь махнул рукой: мели, Емеля, твоя неделя…
По дороге домой стало стыдно: хамелеон, сволочь, а старик — молодец, рубит правду-матку! Кто знает, может, служил в Крыму вместе с дедом-атаманом, отец его частенько вспоминал, хотя о прошлом помалкивал. Вспоминал, когда напивался, облачался в черкеску с пустым серебряным патронташем на груди, брал гитару, пел: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит» и, дойдя до места — «но выстрел раздался, нет чайки прелестной», неизменно пускал скупую слезу. Какая была черкеска! Совсем недавно он купил по случаю такую же, удивил Динку, войдя в полном казацком одеянии. Тут же выпил, завел разговор о деде и о дядьке, который попал в каталажку за какие-то политические дела на Кубани, а во время войны загремел в плен и исчез… Теперь уже Дина его сдерживала и показывала пальцем на потолок, словно именно там натыканы «жучки»…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
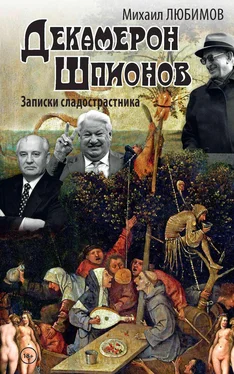

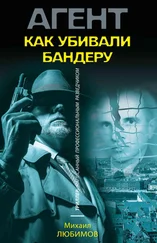







![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/431209/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo-thumb.webp)