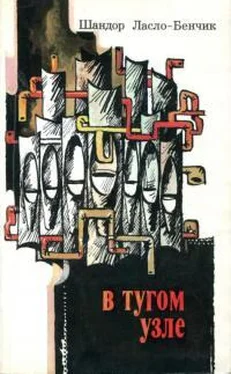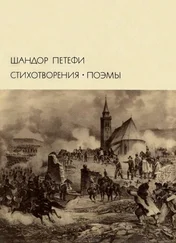На третий же день в короткие перекуры развил такую гонку, что казалось, сам воздух кипит вокруг меня. А после работы я купил телевизор — в кредит, на взятые у ребят в долг деньги — и на такси отвез его домой. Пришлось поставить на шкаф — другого места я для него не нашел. Смотреть, правда, надо было, слегка задирая голову, но все равно замечательно! Потом с нетерпением стал ждать Орши с маленьким Тером.
Я, конечно, очень сожалел, что все так случилось. Наверное, беда моя в том, что я никак не могу быть ровным и вечно то раскаляюсь, то замораживаюсь, и это тяжело не только для меня, но и для всех окружающих… Однако в тот день я был очень доволен собой.
Вдова Бачко вскоре на сто форинтов повысила нам квартирную плату. Смотреть телевизор она не могла нам запретить, так как в свое время забыла оговорить это в контракте. Но у нас тогда как раз воцарился мир, мы радовались, вера и надежда вновь поддерживали нас, так что мы проглотили и эту «лягушку»…
…У церкви наш грузовик повернул на север. Машина так резко и круто развернулась, что Мишу Рагашича, сидевшего с другой стороны, — он был в этой нашей ночной компании пятым, — так качнуло, что мы даже испугались, как бы он не вывалился за борт, под колеса прицепа. Но тут длинная жилистая рука Яни Шейема, выброшенная вперед, подобно языку хамелеона, моментально водворила Мишу на место. А Рагашич выругался. Было бы чудом, если бы он не сделал этого. Рагашич был мужик бешеный, вечно на что-то озлобленный и грубый, как солдатское одеяло. Он облекал свои слова в боксерские перчатки даже тогда, когда другой произнес бы слова благодарности.
Яни Шейем ничего не ответил ему, только медленно снял руку с плеча Миши, поднес ладонь к глазам и долго рассматривал ее с выражением отвращения на лице, точно коснулся чего-то склизкого, липкого и вонючего. Потом обтер о штаны.
Никто не засмеялся, хотя и было над чем. И даже не над Яни Шейемом и не над Мишей Рагашичем. Над нами самими. Над этой нашей разнородной компанией, которая меняет свой настрой так же, как иная дама цвет своих волос. Порою нас буквально захлестывает чувство настоящей большой дружбы, тогда и наши мысли настроены на одну волну, и в делах у нас полное согласие. Порою же мы с унылым видом слоняемся рядом друг с дружкой в серой, донельзя однообразной, бесконечной веренице дней, равнодушные, как мусорный ящик, которому, разумеется, все до лампочки. А затем, естественно, наступает такой период, когда в нас вспыхивает стремление обидеть друг друга, сказать грубое, оскорбительное слово, и можно подумать, что мы вот-вот перегрызем друг другу горло или схватимся за здоровые железяки.
Возможно, правда, что не будь среди нас Миши Рагашича, наша компания была бы на градус спокойнее и миролюбивее. Он среди нас самый вспыльчивый. Причем, наверное, не только в бригаде, но и на всем заводе.
И наверное, самая жестокая борьба с применением любых приемов — это та, что я вел с ним. И длилась она чертовски долго, добрых несколько лет.
Война началась с самого первого дня.
Когда в 1960 году я попал в отеческие руки мастера Канижаи, Рагашич представился мне весьма своеобразно: сели мы все завтракать в уголке, я — как раз рядом с ним; так он выбил из-под меня железную табуретку.
— Мне даже запах твой противен, щенок! В другой раз не лезь ко мне в соседи, — Добавил он с сомнительным дружелюбием. Я здорово приложился задом о грязный бетон, но встал, ничего не сказав. Однако ничего удивительного не было в том, что через час Рагашич шикарно умылся в масле. Мы как раз монтировали смеситель, и Рагашич работал на верхних мостках. Я отыскал какой-то противень, наполнил его до половины маслом и положил на пол у лестницы. Потом отошел в сторону и издали крикнул:
— Господин Рагашич! Вас срочно к телефону!
Миша послушно стал спускаться по лестнице и, ничего не подозревая, угодил в противень; ноги у него заскользили, и он плюхнулся в масло. Однако взаимосвязь явлений он быстро раскусил.
Силищей он наделен огромной, прямо как бык. И если бы Виола с ребятами его не удержали, то, как знать, может быть, тогда же и закончилось бы мое земное существование. Но, во всяком случае, я дал ему понять, что не люблю и не собираюсь оставаться у кого-то в долгу. Поэтому всю первую половину дня я избегал его, но в обед снова сел рядом с ним. Табуретку на этот раз он из-под меня не вышиб, но взглянул на меня так мрачно, что мне показалось даже, что он окосел.
— Я кастрирую тебя, — пообещал он мне.
Читать дальше