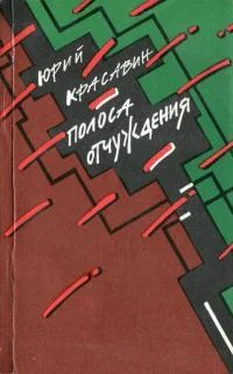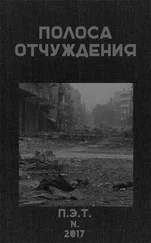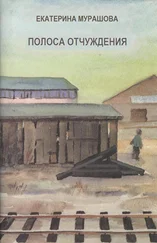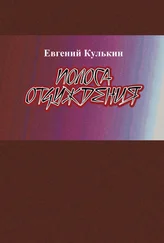— Да ведь есть у матери деньги! — заметил муж. — Что ж, думаешь, сама она не в состоянии сменить это на новое? Зять машину купил — у нее занимал две с половиной тысячи! Это он мне сам проговорился. Я был удивлен такой суммой — откуда взялась? из каких копеек составилась? А мать призналась, что у нее и еще есть. Куда копит! Боже мой, зачем она их копит?!
— Ну, это ее дело. А наше — раскошелиться и обновить все. Вот и обои старые, Леня, да и зеркало надо сменить.
Она еще что-то хотела добавить, но не успела: мать вернулась с новым кушаньем.
— Ну-ко вот ешьте крупеник-то, а то он у меня что-то загулял со вчерашнего. Выручайте хозяйку!
Нина улыбнулась: все шло будто по заранее написанному сценарию: «выручать хозяйку» приходилось и в прошлые побывки. Гости вежливо подцепили на вилки по кубику крупеника.
Я оставлю пока моих беседующих героев: разговор их что-то начинает томить меня. Да и забота донимает: у повести моей еще названия нет, а я приближаюсь к середине…
Вот и с этим всегда такая мука — с названием: день ходишь из угла в угол, ночь ворочаешься с боку на бок, в голове накапливается столько всяческих соображений, но выудить из этого хаоса два-три бойких слова, которые и украсили бы мое творение, и уточнили бы его главную мысль, ох непросто. Придумать хорошее название — половина дела — подчас просто непосильно для меня.
До сих пор, признаюсь, не сумел я удачно назвать ни одну из своих повестей… А ведь многим удается! Как прекрасно, например: «По ком звонит колокол», «Мастер и Маргарита», «Чистый понедельник», «Полковнику никто не пишет»…
Но пора уже, пора моей повести обрести, наконец, свой символ, название, имя… Иной раз дописываешь уже последние страницы — его нет как нет. Снова и снова из угла в угол да с боку на бок…
Нет ли чего-нибудь подходящего у меня в тексте повести?
Вот промелькнуло чуть ранее — птица Грусть. Я люблю словосочетания с печальным, лирическим оттенком. «Птица Грусть». А что, хорошо!
Нет, плохо… Это для барышень прошлого века, а нынче годилось бы что-нибудь броское, дерзкое или хотя бы деловое.
Как же быть?
На последней странице, когда главные герои мои будут уезжать от матери к себе домой, я знаю, мальчик в береточке с помпоном скажет: «Этот дяденька — плохой». Чем не название! Правда, звучит как-то… по-детски. Несерьезно. Да и герой мой, Леонид Васильевич, разве так уж плох, чтоб мне, согласясь с мальчиком, выносить оценку ему в заголовок повести? Он — не плохой, а просто недостаточно совершенен. Мог бы быть добрее, великодушнее, снисходительнее… умнее, наконец! — впрочем, это не спасло бы его от неприятностей.
Можно еще назвать так: «Враган». Что это такое? А вот что: в итоге всех сыновних хлопот о доме и огороде, хлопот, нарушивших весь уклад ее жизни, мать в негодовании на сына скажет:
— Как враган налетел!
Враган… Чудесный, полный смысла сплав двух сильных слов: «враг» и «ураган». Но, пожалуй, это слишком: «Враган». Да, слишком сильно. А если еще вынести в заголовок, слово получит дополнительный вес… под ним прогнется первая страница, и вся повесть приобретет нежелательный крен.
Ладно, пока обойдемся без названия. Оно наверняка родится чуть позднее.
Так что у нас там дальше? Ах вот что: пока я размышлял о названии повести, герои мои вышли в огород и ходили по нему, рассматривая и оценивая все — и изгородь, и заросли вишенника, и наполовину высохшие яблони, и сарай. Мать открывала и закрывала калитки, демонстрируя их ветхость, отпирала ржавые замки и распахивала скрипучие двери…
Мне показалось, между хозяйкой и гостями уже что-то произошло, что они хотели бы преодолеть, потому старались разговаривать друг с другом как можно дружелюбней, и в этом была нарочитость, натужность. В общем, между ними уже пробежала серая мышка, та самая, следом за которой устремляется и черная кошка.
А вечерняя сырость давала о себе знать; я закрыл поплотнее окна и стал растапливать печку: хоть и май на дворе, но улица жилья моего не греет.
Мне было видно, как и Леонид Васильевич понес от сарая большую охапку дров — ага, тоже решил печку протопить! — а мать шла следом и что-то говорила, хмурясь (я знаю, она жалела дрова). Небось она ему:
— Да Лень! Куда ты столько! Чай, не зима.
А он ей отвечал примерно так:
— Да ладно тебе, привезу я дров.
Кстати сказать, зима позади, но у Анастасии Сергеевны половина сарая забита хорошими, сухими дровами: наложены поленницы березовые да еловые; она их бережет. Зачем? А затем, чтобы беречь и будущей зимой. Протапливает же она свою печь кое-чем — щепками, хворостом и разве что иногда, сокрушаясь сердцем, прихватит из сарая несколько поленьев.
Читать дальше