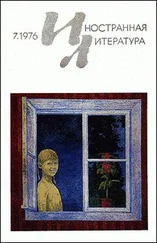Теперь уже стало ясно, что улыбка молодого человека не таит в себе зла. Но старый Альфред Клингман, который всю свою жизнь учил молодых и неистовых, все же глядел на него скорее озадаченно, нежели испуганно. Возможно, он даже восхищался его пафосом и красноречием.
А тот, наклоняясь все ближе к Клингману, продолжал:
— Но вы, друг мой, вы, как любитель музыки, должны понять, что разочарование, о котором я вам рассказал так подробно, ничто по сравнению с тем, о котором я еще расскажу. Мой отец, впервые увидев меня в колыбели, был поражен вот этими пальцами, длинными, как щупальца. «Пианист! — закричал он. — Господь даровал нам пианиста!» В семь лет я брал октаву, я безукоризненно чувствовал ритм, у меня был абсолютный слух. Я развлекал знакомых, называя частоты пистолетных выстрелов, автомобильных аварий, криков о помощи. Что значат все лживые слова поэтов по сравнению с глубинными секретами фортепьянного аккорда, огромного органа, оркестра, голоса? Я объездил мир, искал подтверждения в живой жизни тому, что музыкальные прозрения не признак безумия. Я стоял перед величайшими скульптурными творениями и думал: «Да, это прекрасно! Но это и все?» Я смотрел из Зерматта [10] Зерматт — деревня в Альпах в кантоне Вале, в Центральной Швейцарии, из которой открывается вид на пик Маттерхорн.
на Маттерхорн и думал: «Как на открытке». Я присутствовал при кончине друга, и чувства, которые я испытал, были точно такими, как я ожидал.
Молодой человек улыбнулся нарочито зловещей улыбкой.
— Вот почему я творю именно так, мой дорогой любитель музыки.
Профессор Клингман сказал:
— Значит, вы автор этого…
Слова вырвались у него почти случайно, как будто он просто выразил прежнее умозаключение.
— Да, я автор, — яростно произнес молодой человек, ожидая реакции.
Наверное, прошло не менее минуты. Наконец профессор Клингман снял очки и стал протирать их медленно, старательно, пальцы его дрожали. Потом надел очки, сложил носовой платок, передумал, развернул его снова и высморкался. Заметив вдруг, что сидит в шляпе, он снял ее и аккуратно пристроил на столе.
— Мне очень лестно, что вам захотелось рассказать мне все это, — произнес он мягко и осторожно.
Молодой человек ждал. Казалось, в нем нарастала ярость.
Но профессор Клингман все сидел задумавшись, слегка покачивая головой и нервно улыбаясь. Наконец он сказал, видимо не зная, о чем еще можно говорить с этим человеком:
— Моя жена была пианисткой.
И затем медленно и терпеливо стал объяснять, что значила для него жена, хотя передать его чувства словами, конечно же, было невозможно.
Пес Королевы Луизы Трубач был не дурак, и поэтому, может быть, он и старался держаться подальше от людей; предоставленный самому себе, он беззлобно гонял кроликов или, нежась на солнышке, сидел на местном кладбище — кроме него, никто туда не ходил — и, приоткрыв один глаз, высматривал злоумышленников, а то пробегал по деревне, заглядывал в окна домов, когда сядет солнце, наблюдал, как лавочники считают серебряные монеты, складывая их в столбики, и не замечают, что из-за каждой занавески за ними жадно следят слуги, потом бежал дальше, останавливался у старых лачуг, где собирались карманники, и ночь гудела от богохульств и брани, а воздух пропитан был запахом желчи, пота и пагубного пьянства, затем пускался к черной грязной пристани, где старые торговые корабли бились о доски причала, разбухшие в воде, и молодые моряки храпели и свистели в объятиях пьяных девок, а то и пират с бутылкой рома и попугаем, улыбаясь слюняво, скользнет в тумане, точно змея. Подняв острые уши и сощурив горящие глаза, словно глядя в игольное ушко, Трубач слушал, не творится ли где-нибудь на его пути несправедливость, а затем, подняв лапу, оставлял знак предупреждения и бежал дальше.
Никто лучше его не знал, что происходит в Королевстве безумной Королевы Луизы. И не то чтобы он это считал особой своей заслугой. В самой его собачьей натуре жила потребность наблюдать, держать след, быть всегда начеку, быть ревнивым хранителем Королевства. И даже когда, забытый всеми, он лежал в комнате Королевы Луизы, или спал за печью, положив голову на лапы, или показывал кошке клыки, чтобы она не забывалась — кошка была слишком стара и давно перестала ловить мышей, — у него всегда на уме было одно — забота о благоденствии Королевства. За это и заплатили, когда его «нанимали», если можно так выразиться. Но назвать его «нанятым» было б неверно. Он был не из тех, кто мелочится, кто требует соблюдения формальностей. Он спокойно относился к тому, что никто во дворце почти никогда не разговаривал с ним, и что, привыкнув к нему, его едва замечали, когда он, подобно ангелу смерти, проносился по комнате, и даже к тому, что Королева Луиза награждала его бессмысленными шлепками, когда он терся об ее плечо, или совсем уж по непонятным причинам вдруг говорила — Сидеть! — Лежи, пес! Ради бога! — Вон! Остальные же в Королевстве вообще на него не обращали внимания, а просто подчинялись ему, как подчинялись Королю или Королеве, не раздумывая и не испытывая никаких сомнений. Когда он стоял у открытой двери, открывали ее. Когда ждал у буфета, наполняли его миску. Когда лаял, крадучись подходили к окну и выглядывали.
Читать дальше