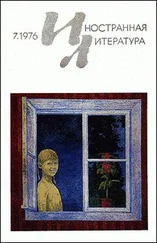— Я вижу, эта музыка слишком растревожила вас.
— Боюсь, что да, — признался профессор. — Боюсь, что вел себя как безнадежный старый дурак. — Он попробовал улыбнуться, но вместо этого покраснел, как это ни странно для старика; краска медленно заливала его лицо, поднявшись по лбу до самой шляпы. — Ведь безобидная шутка, невинный маленький трюк, рассчитанный на аудиторию…
Он внезапно замолчал. Глаза его наполнились слезами, которые он даже не попытался объяснить, а может быть, он и сам не знал им объяснения. Сдвинув очки с толстыми стеклами, он вытер слезы носовым платком.
Молодой человек все еще внимательно его изучал. Худой, желтолицый, лет тридцати пяти — сорока, он был в черном костюме с жилетом и черном галстуке-бабочке. Лоб очень высокий и странно узкий, точно у лошади, а глаза — неестественно яркие и тревожные, как у цыпленка, — постоянно моргали.
— Возможно, эта музыка вовсе не шутка, — сказал молодой человек с какой-то зловещей усмешкой.
Профессор Клингман посмотрел на него и поднес правую руку к слуховому аппарату. Молодой человек продолжал; 60
— Возможно, сегодня вы были единственным из всей этой жирной, самодовольной толпы, кто понял эту музыку.
— Да, наверно, — согласился профессор, медленно и неуверенно опуская руку и с опаской ожидая разъяснений.
— Позвольте мне объясниться, — сказал молодой человек. Он наклонился вперед — в нем было что-то агрессивное — и, продолжая быстро моргать, взялся за стакан поразительно длинными пальцами обеих рук. — Я вырос в семье пастора, в крохотном городишке в нескольких милях отсюда. Щепетильная опрятность наших комнат дышала патетическим, педантски ученым оптимизмом, и в доме царила атмосфера своеобразной проповеднической риторики — атмосфера высоких слов, обозначающих добро и зло, именно они повинны во всех человеческих страданиях.
Профессор Клингман задумчиво коснулся рукой подбородка.
— Вся жизнь слагалась для меня из этих высоких слов, — торопливо продолжал молодой человек, — ведь я ничего не знал о ней, кроме тех необъятных, беспредметных предвестий, которые порождались во мне этими словами. От людей я ждал божественно благого и омерзительно дьявольского, от жизни — пленительно прекрасного и чудовищного и весь был охвачен страстным желанием все это испытать; глубоко и тревожно томился я по беспредельной действительности, по неведомым, безразлично каким переживаниям, по опьяняюще волшебному счастью и невообразимо жестокому страданию.
Мне запомнилось первое разочарование в моей жизни. В родительском доме вспыхнул пожар. Огонь распространился коварно, исподтишка, и скоро весь нижний этаж был охвачен пламенем, оно уже добиралось до лестницы. Я первый увидел его и помчался по дому, вопя: «Горим! Горим!» Я знаю, каким чувством этот вопль из меня был исторгнут, хотя в ту минуту я вряд ли осознавал это чувство: «Это и есть пожар? Так вот что ощущаешь, когда горит дом. И это всё?»
Видит бог, дело было нешуточное. Дом сгорел до основания, мы все едва спаслись от гибели, я сам получил сильные ожоги. Неверно было бы сказать, что мое воображение, предварив события, нарисовало мне пожар в родительском доме более страшным, чем он оказался на самом деле, но смутная догадка, неясное представление о чем-то неизмеримо более страшном уже ранее жило во мне, и по сравнению с ним действительность показалась мне бледной. Этот пожар был первым моим потрясением в жизни.
Не бойтесь, я не буду рассказывать вам о каждом из моих разочарований в отдельности. Ограничусь немногим и скажу, что все великие ожидания, которые я возлагал на жизнь, я с пагубным усердием питал тысячами книг — творениями поэтов. Ах, я научился ненавидеть их, этих поэтов, исписывающих все стены жизни высокими словами, потому что не в их силах было начертать эти слова на небесах, вырвав для этого кедр и окунув его в кратер Везувия! Поэтому я привык воспринимать высокие слова как ложь и издевку.
Восторженные поэты пели мне, что язык человеческий беден, увы и ах, беден. О нет, сударь! Язык, думается мне, богат, безмерно богат по сравнению со скудостью и ограниченностью жизни. Боль имеет свой предел: для боли физической — это потеря сознания, для боли душевной — отупение; со счастьем обстоит не иначе. Но потребность человека в общении изобрела звуки, обманом переносящие нас за эти пределы.
Во мне самом ли тут дело? Неужели только у меня дрожь пробегает по спине и мне смутно чудятся переживания, которых вообще не бывает?
Читать дальше