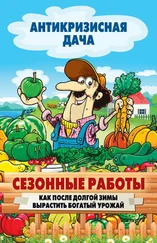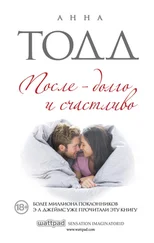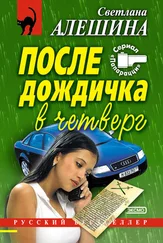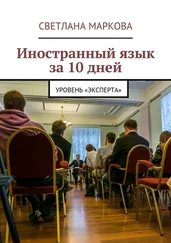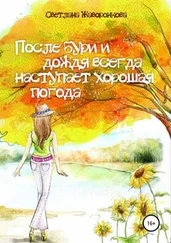Боги дали разрешение на брак Хоседа и Шуб-ад, о чем юношу уведомил сын Убар-Туту, звавшийся теперь по воле богов Зиусудра, то есть «обретший жизнь после долгих дней». В тот день Хосед написал одно из своих последних, дошедших до нас стихотворений:
Мое имя – Луна.
Ты обнимешь меня
Со всей силы
Своего необъятного горя.
Я буду струиться лучами в тебя,
В тело твое,
Словно в белое море…
Твое имя – Вода…
Ты течешь по земле,
В прозрачном потоке
Танцуют рыбы…
Мое отражение
Тонет в тебе…
Ты прячешь его
В темных зарослях тины…
Хосед стал приближенным лицом сына Убар-Туту и готовился к принятию сана жреца. При новом дворе он был летописцем, а также советником правителя и учителем для одаренных детей, которым можно было передать навыки клинописи, факты из истории Шумера, культовые знания. Шуб-ад родила двух детей, мальчика и девочку, и всецело погрузилась в домашние заботы. Позднее у нее и Хоседа родились еще два сына.
Каждый вечер, возвращаясь из дворца правителя, Хосед садился за свой стол и писал о событиях, изменивших его жизнь и судьбы всех, кто спасся на корабле сына Убар-Туту. Он писал об отце, Верховном жреце Меде, о Башне Магов, о некоторых особенностях культа Шумера, о торговле в Меде, о посевах и урожаях, о количестве скота, о содержимом складов и амбаров, о количестве мужчин и женщин в городе до наводнения. Он описал работу порта, упомянул, из чего строились лодки и плоты, какие товары доставлялись из Ларака, а какие из Сиппара и Акшака. Также он подробно описал виды дерева, которые сгружались в порту, виды камня, из которых потом изготавливались статуи для храмов или делались плиты. Особенно тщательно Хосед описывал премудрости строительства каналов, систему орошения полей в тех засушливых краях, где почва часто гибла от избытка соли, подробно описал календарь земледельца бога Нинурты, верного земледельца бога Энлиля и составил новый, чтобы он не выветрился из памяти людей и пригодился в новых условиях. Он описал профессии медника, кузнеца, плотника, ювелира, шорника, гончара, ткача. Он рассказал о том, сколько было в Меде рабов, откуда их привозили, на каких работах они были задействованы. Он стремился передать все до мельчайших деталей, не забыть ни о чем и ни о ком. Рассказал о работе лечебниц, школ, администрации. Он знал, что его глиняные дощечки не пропадут, они обязательно дождутся своего читателя, и в Меде вновь зацветут сливовые деревья, на базарной площади весело заиграет музыка, и птицы будут кружить низко-низко над тростниковыми и сырцовыми крышами домов.
* * *
На этом рассказ о Меде и его жителях обрывался. По небольшим фрагментам, написанным сыном жреца Меде, его сыном, внуком и – в самом конце – внучкой, можно было составить лишь краткую хронологию последующих событий, связанных с историей пути глиняных дощечек на территорию будущей провинции Багдад, в то место, где когда-то был расположен Меде. В качестве посланника, того гонца, который первым отправится на место стертого с лица земли Меде, Хосед выбрал своего старшего сына Гаура. Изо дня в день он внушал сыну, что тот родился для того, чтобы выполнить особую миссию, поэтому он должен учиться языкам и разным наукам, должен тренировать тело, ибо предстоит ему нелегкий и очень долгий путь в страну его предков. Гаур беспрекословно слушался отца и исполнял его волю. Если же Гаур не смог бы добраться с клинописными дощечками до правителей тех далеких мест, то сын Гаура должен завершить эту миссию.
Так и случилось. Когда Гаур достиг совершеннолетия, отец благословил его на долгое и опасное путешествие. Хосед долгие годы составлял карту будущего маршрута Гаура. По его расчетам, местом, в которое забросила судьба его земляков и его самого, была земля и горы Ницир, расположенные в районе нынешней Сулеймании, на востоке Ирака, в иракском Курдистане. Это были вершины Пир Омар Гудруна, возвышающиеся над уровнем моря на 2743 метра. Жители Шуруппака спустились с горы, к которой прибило их корабль, и основали недалеко у подножия небольшое поселение. Гаур научился писать, читать, считать, был развит физически, прекрасно владел оружием, а главное, ему передались целеустремленность, убежденность в мессианстве, свойственная даже не столько отцу, сколько деду, погибшему во время наводнения, Великому жрецу Меде. Он с детских лет понимал, что на него возлагает надежды не только отец, но и весь шумерский народ, все погибшие жители Меде. Единственное, что могло заглушить боль от их преждевременной жестокой гибели, – память, рассказ о Меде, об истории его основания, о его жителях. Хосед никак не мог смириться с убеждением Энмешарра в том, что на земле нельзя ни к чему привязываться, нельзя ни к чему привыкать, так как на земле все временно. Хосед считал, что продолжение человека – в рождении детей, в творчестве, в летописях, в памяти. Привязанность к земле, к родным – это то главное, ради чего живет человек. Все, что рушится, исчезает, умирает, сохраняется в памяти людей, в памятниках, оставшихся на земле или скрытых под землей. Гаур разделял убеждения Хоседа. Отец долгие годы писал историю Меде, а он был обязан донести клинописные дощечки до тех мест, где когда-то находилась родина его предков.
Читать дальше