– Так может… – Татьяна помялась немного, но наконец решилась: – Может, пойдешь сама к Марии? Повинишься? Она, может, и простит тебя по-христиански? А?
Олеся Иванна сначала уставилась на Татьяну так, будто увидела, что вода в Оредежи вдруг потекла в обратную сторону, а потом невесело рассмеялась.
– Да что ты такое говоришь, Таня! К Машке пойти? К этой стерве?
– Она в церковь ходит и в Бога верует, – твердо сказала Татьяна и, сказав, спохватилась: вышло глупо.
Олеся Иванна нахмурилась, и Татьяне подумалось, что даже и это строгое выражение лица выходит у нее лукавым.
– А ты что, думаешь, если в церковь ходит – так сразу уже и в Бога верует?
Татьяна молчала, потупившись. Олесе стало немного совестно: про Бога это она зря помянула и про церковь тоже. Над остывающим чаем вились последние тонкие усики белого пара, и стояла такая тишина, что слышно было, как в спальне тикают старенькие настенные часы с кукушкой.
– Таня, я перед Богом, по-твоему, где виновата? – вдруг спросила Олеся Иванна, и в голосе ее послышалось с трудом сдерживаемое рыдание.
– Олеся Ивановна, да ну тебя… что ты такое говоришь?! – испугалась Татьяна. – Кто я, чтобы тебя судить?
– Я никого в своей жизни никогда не ударила, – продолжала Олеся, и Татьяна невольно опустила глаза, чувствуя, что сейчас услышит то, чего слышать ей совсем не следует, и что, сказав ей это, Олеся потом не раз пожалеет. А остановить ее теперь – обидится, и выйдет, что Татьяна, вместо того чтобы помочь, сделала только хуже. Ах, был бы сейчас рядом Сережа…
– Я людям всю свою жизнь верила, – продолжала Олеся, – мне, когда четырнадцать было, отчим сказал: «Приходи в сарай, поможешь мне там инструмент разобрать», я и пошла… – она отпила из чашки остывшего чая, поперхнулась и закашлялась. Татьяна смотрела на нее, будто окаменев, и ей хотелось, чтобы Олеся замолчала и не говорила ничего больше, но сил перебить ее Татьяна в себе не находила, и потому только подвинула к Олесе тарелку с пирожками. Та взяла пирожок, откусила от него, усмехнулась и горестно покачала головой. Она редко об этом вспоминала, жила себе и жила, а когда все-таки вспоминала, то до слез становилось жаль себя и своей молодости, загубленной как-то одним махом, и ладно бы еще в один вечер или ночь – в темное время суток, по ее разумению, было легче смириться с чем-то дурным, но тогда-то было утро, и когда Олеся вышла, шатаясь как пьяная, из проклятого сарая, то на чистом, без единого облачка небе как ни в чем не бывало светило солнце, равнодушно и без разбора согревая всех своими лучами, и какие-то птицы весело трещали в кустах сирени, росших вдоль забора, и в теплом как парное молоко воздухе звенели стрекозы и были слышны веселые крики играющих где-то в соседних дворах детей. И Олеся, понимая, что она уже никогда не сможет так же, как раньше, играть с ними и смеяться, комкала во влажных скользких пальцах подол платья и тихо скулила, как скулит побитая злым хозяином собака.
– А зачем же ты… – Татьяна сделала глубокий вдох, как перед прыжком в холодную воду, – зачем же ты пошла, Олеся Ивановна?
Олеся Иванна пожала плечами.
– А как было не пойти? Матери сказать? Она нас с братом и так била, а тут… – она махнула рукой. – Да вообще убила бы.
Старший брат Олеси Иванны Кирилл, угрюмый, неженатый и непьющий, жил на другом конце поселка и работал на станции инженером. Несколько лет назад, когда Олесиного отчима нашли на болотистом берегу Оредежи под старым пешеходным мостом – там, где река была широкой, а течение медленным, – говорили, будто это Кирилл его утопил, но местный следователь, посмотрев на страшное лицо утопленника, сказал, что нечего тут и разбираться: выпил человек лишнего, спустился к реке по нужде, упал, а подняться уже не смог – так и захлебнулся вонючей илистой жижей. Мужики, ходившие к Олесе, боялись Кирилла как огня и сами просили ее, если что, не жаловаться на них брату: она никогда и не жаловалась, в глубине души веря разговорам про смерть отчима, и, если брат изредка заходил навестить ее и спрашивал о жизни, говорила, что все у нее хорошо, жизнь идет потихоньку, люди, как всегда, покупают ржаной хлеб и макароны «ушки», а два килограмма пряников залежались и зачерствели, так что пришлось их совсем выбросить. Кирилл хмыкал в черные усы, смотрел на сестру испытующе, но, больше ничего от нее не добившись, уходил к себе.
Последний раз они разговаривали по душам на похоронах матери, да и то нормального разговора не получилось, и Олеся потом ругала себя, что сама все испортила. Народу тогда пришло мало: мать и раньше в поселке ни с кем не дружила, а после смерти мужа замкнулась в себе и пила запоями, живя с денег, которые давали ей дети. Так и умерла – тихо, не просыпаясь. Поэтому похороны прошли без лишнего шума; Олеся помнила только, что было пасмурно и накрапывал мелкий дождик. Когда гроб опустили в могилу и поселковые мужики стали, широко размахивая лопатами, его закапывать, Олеся отошла в сторону – ей не хотелось смотреть, как мать уходит в землю. Кирилл постоял чуть дольше, потом достал из кармана беломорину, сунул в рот и подошел к сестре. Некоторое время они молчали, потом Кирилл, перекатив незажженную беломорину из одного угла рта в другой, посмотрел на Олесю искоса, с прищуром, и сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анаит Григорян Поселок на реке Оредеж [litres] обложка книги](/books/392755/anait-grigoryan-poselok-na-reke-oredezh-litres-cover.webp)
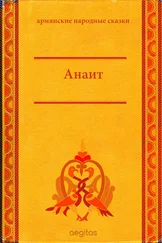



![Михаил Баковец - Крепость на реке [litres]](/books/393796/mihail-bakovec-krepost-na-reke-litres-thumb.webp)
![Александр Забусов - Войти в ту же реку [= Перевёртыш] [litres]](/books/411166/aleksandr-zabusov-vojti-v-tu-zhe-reku-perevertysh-thumb.webp)
![Крейг Оулсен - Обратный процесс. Реки крови [litres самиздат]](/books/436944/krejg-oulsen-obratnyj-process-reki-krovi-litres-thumb.webp)


