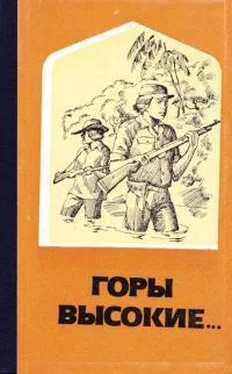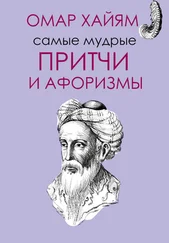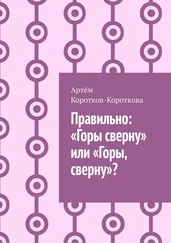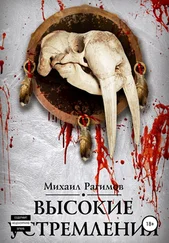С тех пор как мы перестали молчать и начали права свои требовать, жизнь для мужчин в этих краях сделалась невыносимой. Мы родились бедняками, и господа хотят, чтобы мы такими всегда и оставались. А если мы не согласны, они готовы всех нас уничтожить. Это можно понять по тому, как они с нами обращаются, как легко разделываются с людьми. Мы живем в нищете, голодаем, и все равно они хотят уничтожить нас. Они хотели бы, чтоб нас вообще не было. Кто же тогда им будет собирать хлопок, кофе, кто будет расчищать поля под посевы, кто будет засевать такие огромные землевладения? Может, они сами? Может, власти снимут эти пушки, которые носят, чтобы народ запугивать, и сменят их на мачете и бычью упряжку? Может, они перестанут властью быть, у которой только и забот что туда-сюда ездить и все выслеживать? Может, такое будет, когда они покончат с бедняками?
«Не будет этого», — говорил мне Хустино, а Хосе подтверждал: «Но мы должны организоваться. В этом наша сила. Мы их больше не боимся. А если останемся одни, то все равно упрямо пойдем вперед. Нас не испугают ни их сила, ни их зверства, ни убийства. Испугаться — значит погибнуть, значит признать себя побежденным, хотя правда и на твоей стороне…»
— Не знаю, почему Хустино не выходит у меня из головы.
— Надо забыть его.
— Не тебе так говорить. Уже не одну ночь я слышу, как ты плачешь потихоньку, а потом идешь во двор будто по нужде и долго-долго не возвращаешься. Память о нем лишает тебя покоя.
— Я не могу его забыть. Но не люблю, когда ты мне об этом напоминаешь, сил не хватает слушать, когда говорят про сыновей, которых больше никогда не увидишь. А они нам нужны.
В тот день Хосе проснулся спокойный и сказал мне:
— Пусть ребята соберут все эти вылущенные початки маиса с пола и сложат в старый мешок. Кума просила на растопку.
Ушел раненько, на рассвете, сказав:
— Может, до захода солнца приду. Ночевать в горах, хоть и с товарищами, все же хуже.
Я попросила:
— Пока опасно, лучше не приходи. Знаешь, как с Элио вышло. Его не отдают и ничего о нем не говорят. Мы-то хоть смогли тело Хустино увидеть и знаем, что его уже нет в живых.
Когда человек без вести пропадает, еще хуже. Тут хоть знаешь, что нет в живых. А когда человек исчезает и никто не знает, где он и что с ним, хуже вдвойне. Все родные и близкие с ума сходят от отчаяния и неизвестности. А отчаяние — это все равно что медленная смерть.
Опасно было очень. Потому Хосе и ушел ранехонько; на дворе еще темно было, на дорогах ни души.
— Знаешь, ястреб сегодня на соседский двор прилетал, — сказала я, провожая его.
А он мне:
— Береги наших, ястреб-курятник привычку имеет на старое место еще раз прилетать.
Это уж точно, я и сама знаю. И, продолжая разговор, сказала:
— Он будто выбирал. Сцапал самого жирного цыпленка. Бедняга наседка чуть за ним не взлетела, а потом, спрятав остальных под крылья, вовсю раскудахталась.
А он мне ответил:
— Все живое свое дитя жалеет, даже птицы и звери.
Говорят, что деревьям больно, когда ветку срубают. И про Адольфину он мне тогда сказал:
— Хорошо, что девочка побудет у нас еще несколько дней. Тебе поможет. Да и лучше ей здесь, пока в Илобаско не утихнет. По слухам, власти бог весть что там творят.
Я ему заметила:
— Бедная Мария Пия! До сих пор ничего ей не ответили.
Он согласился со мной:
— Хуже всего, когда о человеке ничего не говорят. Так никогда и не узнаешь, где он.
Удивляюсь, какая молодчина наша Адольфина! Не знаю, может, нынешняя молодежь вся такая. Мать ее передала, что Адольфина с неделю у нас побудет.
Я и говорю Хосе:
— Адольфина во многом мне помогает. Я прямо отдыхаю, когда она здесь.
Она малышей, своих дядьев, нянчит. Смешно, а что я сделаю, если последний, Мончо, у меня лет в сорок родился. Повезло этому сосунку, баловень всей семьи.
Каждый раз, когда Хосе про это рассказывает, я умираю от смеха. За грехи бог его наказал. А он и не отпирается. Даже совсем наоборот. Когда у него настроение хорошее, он и мне, и внукам, и малым детям все повторяет и повторяет: «Ну, так вот как у меня о этой теткой вышло». И опять то же самое. Остановить его невозможно.
«Значит, отправился я за чернобыльником, потому что у Марии Пии, которой в то время девять лет было, живот заболел. Зашел к бабушке моей и попросил лошадь, которую Каньяфистолой звали.
— А зачем тебе, парень? — спросила она.
— Девочка заболела, к речке надо съездить за чернобыльником.
Читать дальше