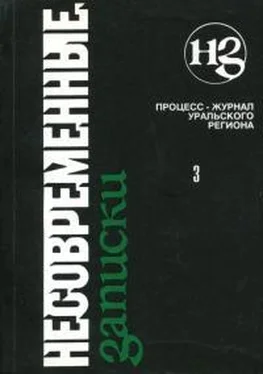Ту неделю я плохо помню. Ты приезжал каждый день — что тебя заставляло ехать сюда? Было острейшим удовольствием следить за тем, как ты, краснея от натуги, переваливаешь бабку на кресло и включаешь телевизор на полную — я бесстыдно раздеваюсь, и за бабкиной широкой спиной мы… Ты воспламенялся не на шутку, один раз я открыла глаза — твой оскал! Губы растянуты в ниточку, дёргается щека, и капля пота бежит к переносице — я видела твоё лицо! Потом вообще всё искривилось, пятно экрана расплылось, и громовые голоса бросали какие-то заклинания — ты оторвался от меня и, шатаясь, встал на пол, и секунду стоял неподвижно, согнув плечи, и потом рывком развернул кресло от телевизора — к нам; бабка беспечно улыбалась, а мне стало жутко, но ты вернулся и стал кусать мне плечи — бабка смеялась — сознание покинуло меня, и только потом, много времени спустя, я смогла восстановить происходившее: как бабка вдруг содрогнулась, закричала, выкатила глаза и опять закричала…
В парализованных конечностях отсутствуют активные движения, но возможны оборонительные, защитные движения, особенно при отвлечении внимания больного.
Да, я вспомнила этот режущий звук; сколько он длился — не знаю… Тебя не было, когда я пришла в себя; бабка сидела, уронив голову на грудь, я приняла душ, а она всё так же сидела — жизни ей оставалось два дня, а слова — ни одного, и смеха тоже не оставалось. Она умерла в день приезда мамы, и на этот раз мама всё устраивала, а я сидела на кухне и курила. Я решила тебя убить. Как только решила, взяла нож и — к Левашовой, как чувствовала, что ты там.
А мы пили кофе с ликёром, а затем и вино, и музыка обволакивала, музыка… Уже чужая, не наша, уже не пытавшаяся быть нашей, не было этой музыке дела до меня, мы с ней друг для друга не существовали, что-то отгораживало, а мне этого и надо было, пусть.
Унесла нож обратно.
Ты так и не узнал, Женечка, на каком волоске висела твоя жизнь. А я сейчас думаю: все наше скреплено такими вот волосками, и мы рвём эту ткань, и она рвётся под нашим напором и порваться не может. Бьёмся, запутываемся в лоскутах, а за ними — новые паутины встают, и пружинят, и растягиваются между нами волоски, всю жизнь распутываешь и отрываешь от них свою жизнь, будь она проклята.
Из стенографической записи речи больной с ускорением мышления: «Я совсем здорова, у меня только маниакал. Как говорится: не важен метод, важен результат. Ваша нянечка пришла сегодня на работу, а у нее комбинация из-под платья выглядывает. Из-под пятницы — суббота… Завтра суббота, Вы меня завтра выпишите… А у Вас тоже галстук не в порядке, дайте я Вам поправлю. Не думайте, что я подлизываюсь. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна. Я в Вас влюбилась — ну и что тут такого? Любовь не порок, а большое свинство. Я Вам письмо написала в стихах. Хотите, прочитаю?» — и т. д.
Началом были занесённые снегом поезда, застрявшие на перегонах, и бесстрашный вохровец Сережа, вооружённый бравым карабином, спасающий от снежной тоски, безлюдья, безнадёги чудовище, обрастающее сугробами, прилипшее к раскалённым от холода рельсам.
Началом были трёхсуточные командировки в безлюдье и безнадёгу, сопровождение секретных грузов. Секретные грузы считались главнее меня, они существовали, а я функционировал, хотя мёрзли мы вместе, но им достаточно было существовать, чтоб я функционировал. И я едва не застрелил от неожиданности мужика, подобравшегося из пурги к поезду разжиться огоньком, — бог с тобой, сказал я себе. Мужик прикурил, расплавив льдинки на усах, а ведь если б ты меня убил, сказал мужик, ты всё равно отвертелся бы, вот ведь какое дело, такая дурацкая работа. Бог с тобой, сказал я себе, я бы отвертелся, если бы пристрелил этого мужика, попытка к нападению, обычное дело, выстрел в воздух, выстрел в голову, секретный груз. Ну ты смертник, сказал я мужику, ну ты смертник, он заржал, запрокинув голову, счастливым глупым ржанием, и я снова чуть его не пристрелил, но он вовремя сиганул обратно в пургу, оставив меня навсегда в ожидании смертника.
Это было началом, а потом мой старый друг, старший прапорщик Ткачев, он был не дурак выпить, он мне сказал: Сережа, если тебе дали карабин, то поимей в виду, он обязательно выстрелит. Скотина Ткачев, ты мне накаркал декабрьский труп, звон в башке, кровавую дорожку по насту. Меня, правда, кровью не удивишь, еще чего, — тогда, на шоссе, жуткое дело, «дальнобойщик» сбил «Москвичонка», два мужика и три бабы, водитель стёр лицо об асфальт, метров шесть пропахал, одну мягкой частью подбородка швырнуло на угол двери, так и повисла, и обувь с ноги слетела, с мёртвых всегда обувь слетает… Что там творилось, даже матёрые шоферюги блевали, кто-то, толстенький такой, бегал и орал: они живы! они живы! Какое там живы, эта баба болтается на дверце, обувь слетела, я сразу всё понял, кровь пахла кровью, «дальнобойщик» сбил «Москвичонка». Не так-то просто вывести меня из равновесия, но все накаркал скотина Ткачев, старший прапорщик. И когда Маринка меня уговаривала: брось эту свою ВОХРу, посмотри, на что ты стал похож, я огрызался, я уже чувствовал смертника, я его, гада, зазывал, он, сука, бродил где-то возле моих поездов, он выжидал, он боялся карабина, а мне платили хорошую зарплату и давали отдохнуть неделю после трёхсуточной командировки, и смертник тоже отдыхал, а меня разбирала зависть: вохровец Серёжа продавливал прабабушкин бугорчатый диван в карликовой комнатке и слушал, как бухает семидесятилетняя соседка Груня, а этот хлыщ, посмотрев «видик», принимал контрастный душ и трахался с французскими духами, австрийской косметикой и чёрными чулками в сеточку, и меня разбирала зависть: ради всего этого стоило таиться в пурге, наблюдая за вохровцем Серёжей, мимо которого всё это проплывает под видом секретного груза.
Читать дальше