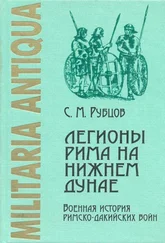Старик не мог взять в толк, о чем тут идет речь. А Урматеку, упоенный своей речью, продолжал:
— Я накопил добро и передаю его Амелике, пусть она умножит его и передаст своим детям! Потому что нажитое добро — это как-никак свобода от забот и тягот!
Растроганный Янку подошел к дочери, обнял и поцеловал в обе щеки. Амелика невольно утерлась.
— Посмотрите, сударь, вот кто будет с ними одной жизнью жить! Наша барышня! Все, что надобно знать, она знает и лицом не ударит в грязь!
Ростовщик покраснел от удовольствия, потупился и рассыпался дробным смешком.
— Амелика, доченька моя! — воскликнул Урматеку. — От моей и от твоей крови она! Ради процветания рода должен ты дать мне денег, боярин Лефтер!
Урматеку замолчал.
Молчал и Лефтер. Кукоана Мица чувствовала, как внутри у нее перекатываются ледяные камни. Даже Амелика, очнувшаяся от своего обычного безразличия, переводила взгляд с отца на Лефтера. Ростовщик, склонив голову, ни на кого не смотрел. Глаза его были прищурены, и смотрел он, казалось, внутрь себя. Сказать Урматеку было больше нечего. Он подождал минутку и, решительно, как всегда, когда хотел окончательно прояснить важную ситуацию, распорядился:
— Пошли! — и поднялся.
Женщины встали вслед за ним. Сидеть остался один старик Лефтер. Казалось, что он задремал на своем стуле. В тишине снова прозвучал громкий голос Янку:
— Так дашь или не дашь денег, боярин?
Старый Лефтер медленно поднимал голову. Взгляд его, обычно уклончивый и холодный, был сейчас добрым и искренним.
В глубине его теплился не то вопрос, не то мольба. Поднимаясь все выше, взгляд достиг лица Урматеку. Потом старик повернул голову и посмотрел на кукоану Мицу, на Амелику. И наконец улыбнулся.
Он был согласен, только не решался высказать это!
Теперь Янку нужно было знать, что же все-таки писал барон Барбу в то утро, когда заговорил о земле, помнит ли он еще о дарственной и, самое главное, по-прежнему ли к нему расположен. В том, что барон благоволит к нему, он до поры до времени не сомневался. Тому было много доказательств: и Лефтерикэ, и Дородан, и Буби. Но после злосчастной смерти старика и всей этой истории с собакой… И хотя барон был сама снисходительность, Урматеку точно не знал, к нему ли самому или только к собаке. После похорон они так ни разу и не виделись. У Янку не было особого желания предстать пред гневные очи барона. Он ждал, когда у барона появится в нем нужда. Но истекал срок закладной, и выходило, что у Урматеку у первого возникала нужда в бароне. Обстановка была не из благоприятных. И Пэуна ничем не могла ему помочь. В последнее время домница Наталия ни за чем не посылала к барону Барбу, и он, как это частенько случалось, совсем забыл про нее. Так что и Пэуна не знала, в каком он настроении.
Но два обстоятельства успокаивали Янку в эти тревожные дни: первое — барон так и не помирился с Буби, несмотря даже на смерть Дородана; и второе — что Урматеку считал себя единственным серьезным покупателем имения, избавителем барона от публичных торгов, а значит, его благодетелем, хочет этого старик или нет! Так что Янку добивался теперь лишь исполнения некоторых формальностей, связанных с покупкой имения, но необходимых ему не для того, чтобы войти во владение имуществом, а чтобы, обладая им, войти в другое общество.
При встрече барон был необыкновенно молчалив, предоставив говорить своему управляющему. Янку красочно обрисовал положение: кредитор, который для барона существовал в единственном лице — и был известен только по имени — господин Лефтер! — не желает больше ждать; деньги, вложенные в фабрику, потеряны навсегда (имя Буби Урматеку заменил словом «предприятие», мимоходом указав на его несостоятельность); всех доходов едва-едва хватит на то, чтобы расплатиться с долгами и покрыть нужды на содержание домов барона и домницы Наталии. Потом он поговорил немного и о себе, о своих неусыпных трудах и преданности барону; о своих отцовских чувствах и о мечте видеть Амелику выше и лучше себя самого; о своей признательности барону за неизменную доброту, под конец сказав и о недвижимости, владеть которой он достоин, не преминув напомнить барону о дарственной. После чего он выспренне заговорил о надежности землевладения, повторяя, что безделушки, сколь бы ни были они многочисленны и драгоценны, хрупки и неосновательны. Что же касается денег, необходимых для выкупа закладной, то Урматеку поклялся, что влез по горло в долги, по гроб жизни связав себя по рукам и ногам. Говорил он долго, то быстро, то медленно, то почтительно стоя перед бароном, то большими шагами меряя комнату; как свой человек в доме, брал в руки безделушки и переставлял их с места на место, закуривал сигару и пускал дым кольцами вверх или вниз, смотря по тому, чувствовал он надежду или неуверенность. Отстаивая свои кровные интересы, Урматеку чего только не делал: воздевал руки вверх и простирал их вперед, сплетал пальцы и сжимал кулаки. Он смотрел искоса и холодно сверкал глазами, слова его то тонули во вздохах, то звучали отрывисто и повелительно. Если бы было кому все это строго взвесить и оценить (а барон мог бы это сделать, но было ему не до строгости), сразу бы стало очевидно, что Урматеку мечется между неопределенностью и уверенностью, между желанием и опасениями. Единственное, чего не хватало Урматеку, так это плавности. Он был во власти то одного, то другого чувства. Но какие бы чувства его ни одолевали, нетерпение и жадность сквозили во всем, и как ни пытался он их скрыть, они обнаруживали себя в его восклицаниях: «И у меня будет земля!», «Вот я и помещик!».
Читать дальше