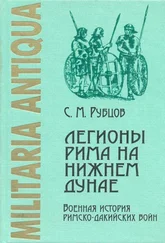— Скажи мне, Ликэ, ну чем я не барин?
Швайкерт самодовольно усмехнулся. А Мали и Мили радостно замахали руками.
Поздние весенние сумерки, спускаясь с холма Филарета, застывали на берегах озера и превращались в прекрасную бухарестскую ночь. Солнце угасало, не чувствовалось даже дуновения ветерка, листья висели неподвижно, ровные линии домов постепенно превращались из ярко-огненных в угольно-черные, на город нисходил тот покой, каким отличается летний Бухарест вечером и который станет еще глубже с приходом тихой прозрачной ночи. Покоем дышало и кладбище. Погребение Лефтерикэ запоздало из-за длинной дороги, и теперь, уже в сумерках, когда закончилась церемония, присутствующие на похоронах разбрелись среди могил. Янку Урматеку стоял у ворот кладбища, опершись на трость, и курил. Из дома он отправился пешком вслед за катафалком, потом сел в пролетку, а перед самым кладбищем вылез из экипажа и опять зашагал пешком, в первом ряду, среди близких родственников. На отпевании он не присутствовал. Он беседовал со смотрителем кладбища, расспрашивая, сколько доходу приносит ему огород, который тот держал за кладбищенской оградой. Потом он осмотрел гипсовых ангелов при входе, пересчитал все арки в большой стене, вышел на дорогу к Джурджу, но из-за пыли вернулся обратно. Никогда еще похороны не казались ему такими длинными. Он бы с радостью отправился домой, да боялся кукоаны Мицы, Амелики и шушуканья за его спиной женщин. К тому же ему не хотелось портить того впечатления, какое произвел венок, возложенный от его имени. Никто, даже кукоана Мица, не ожидал, что бедный Лефтерикэ удостоится такой поистине боярской почести.
— Каков Янку! — воскликнула даже его свояченица Лина, которую за жеманство и писклявый голосок Янку прозвал «Мяу». — Что бы там ни говорили, а человек он душевный!
Слышать это Урматеку было тем более приятно, что Лина отличалась крайним прямодушием и никогда не шутила.
Наступал тихий летний вечер, и на душе у Янку воцарялись мир и покой. Свой долг он выполнил, и смерть, требовавшая соблюдения всяческих обрядов, миновала. Чувствовал он себя прекрасно! Глядя на прозрачное, как стекло, предзакатное небо, Урматеку ощущал, что завладевает им непреодолимое желание куда-то мчаться. И ему необходимо было поддаться этому желанию, дать ему выход, утомить себя до изнеможения. Все в нем бродило, словно молодое вино. Он был как муравейник, кишащий жизнью. Горели щеки, скулы покалывало, шевелились пальцы. Голову ему туманило то самое отчаянное желание махнуть на все рукой, какое охватывало его обычно по весне и утолялось попойкой.
Большая линейка, запряженная откормленными лошадьми, ожидала у ворот кладбища. На ней каретник Фриц, служащий при королевском дворце, добрый приятель Швайкерта и Урматеку, привез свое семейство на похороны Лефтерикэ.
Фрица и Ликэ Урматеку звал «добрые немцы» и, привязываясь к ним все больше и больше, охотно приглашал на обеды и ужины. Фриц был родом из Берлина. Прибыл он в Бухарест в самом начале правления Кароля I [9] Кароль I (1839—1914) — немецкий князь Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген, провозглашенный в 1866 г. господарем, а в 1881 г. королем Румынии.
в легком, высоком фургоне, до верху набитом моделями пролеток, дрожек, санок, конской упряжью и седлами. Прошло несколько лет, и по улицам Бухареста покатили всевозможные экипажи его работы, на облучках которых восседали кучера и слуги в парадных ливреях. Штефан Барбу, страстный лошадник, был с Фрицем в большой дружбе. Каких только экипажей не наизобретал для него Фриц! К примеру, для охоты он изготовил экипаж со стулом на колесиках, вращавшимся во все стороны; для долгих путешествий по имению — возок на мягких рессорах, в виде домика, надежно защищенного от пыли; а так называемая «капелла», как прозвал Штефан низкую бричку, бесшумную и удобную, в одну лошадь, с сиденьем на двоих: для барина, правившего лошадью, и цыгана-музыканта, предназначалась для путешествий при лунном свете к какой-нибудь возлюбленной. Фриц на лету схватывал боярские причуды и капризы и умел угодить им. Невысокого роста, подвижный, с чубом седых волос, нависающих надо лбом, и пышными бакенбардами на толстых румяных щеках, он легко вскакивал на облучок, несмотря на солидный живот, начинавшийся чуть ли не от подбородка. Не дурак выпить, он незаменим был на вечеринках, потому что хорошо пел. И вот линейка Фрица стояла у ворот, словно по заказу!
Первой с кладбища вышла Катушка. Черное платье делало ее еще стройнее, ручки под вуалью казались еще белее. От нее пряно и сладко пахло духами, и при жаре этот запах был тяжелым и душным. Увидев Янку, она сбилась с шага, словно испугалась чего-то. Янку это заметил. Значит, он не ошибся: Журубица его избегает. Дважды улавливал он ее недоброжелательство: один раз — в быстром взгляде, брошенном сквозь прищуренные ресницы, второй — в словах, которые едва мог разобрать, потому что они замерли у нее на губах. Но все это было так мимолетно. Урматеку и заподозрил бы что-то, но стоило ему только подойти к Журубице и приласкать ее, как все подозрения исчезали. Вот и сейчас Урматеку обнял ее за талию. А Журубица, хоть и не ожидала этого, закрыла глаза и прильнула к нему. Янку почувствовал, как пылает ее гибкое податливое тело, влажное под тонким, пряно пахнущим шелком. Желание Урматеку броситься невесть куда безоглядно сделалось нестерпимым. Он приподнял Катушку и почти бросил на линейку, приговаривая бодро и громко:
Читать дальше