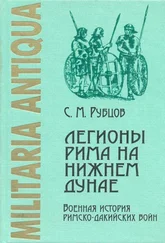Сам Урматеку ел мало, и ему была противна чавкающая жадность собравшихся за столом. Взяв большой ломоть белого хлеба, он зарылся носом в его пахучую мякоть. Он любил этот сытный пшеничный запах, казавшийся сытнее самого хлеба. С малых лет он любил запах хлеба больше, чем его вкус. Мать учила его оберегать хлеб от всякой нечистоты, поднимать, где бы тот ни валялся. И до сих пор он подбирал все корки и бросал в бадью, где замешивали корм для птицы. Он, который в пьяном разгуле прикуривал от сотенной бумажки сигару, послюнив палец, собирал со стола хлебные крошки.
Вдыхая свежесть, веющую от молодой женщины и мягкого хлеба, он с брезгливостью смотрел на жир, которым лоснились физиономии сотрапезников. Ему было тягостно, противно, что это его родственники, что они сидят в его доме, что Мица приглашает их почти каждый день. Но обирая много лет подряд барона Барбу, так что теперь он мог без особого убытку кормить в собственном роскошном доме всю эту компанию, Урматеку незаметно прошел хорошую школу, в которой оказался не последним учеником. Втайне он гордился, что умеет есть красиво, по-господски, хотя если ему хотелось насытиться всласть, то он себя не стеснял ничем, забывая все: и чему научился, и чего нагляделся. Но про себя знал твердо: стоит ему захотеть, будет и он держать себя как истый боярин. А все потому, что глядел во все глаза и запоминал крепко. А «энти» ни на волос благороднее не станут, даже если б и захотели! Оттого-то Урматеку и гордился, оттого-то и приходил в ярость. Гордился он собой, чувствуя себя выше их, злился же оттого, что не мог всех их выгнать вон, что стыдился их, что Мица дорожила ими, а он Мицей. Сколько раз кипел он от гнева так, как сейчас! Выпив единым духом бокал вина, от которого ему сразу стало жарко, Урматеку положил свою руку на маленькую, ленивую руку Катушки, крепко сжал ее, кашлянул и заговорил:
— Кто сегодня вечером видел у меня во дворе цыпленка?
— Какого цыпленка? — недоуменно отозвался Лефтерикэ среди всеобщего молчания.
— Молчи и ешь! Не твое дело! — оборвала брата Мица.
— Не приставай к нему, Мица, — сказал Янку, довольный, что у него появился собеседник. — Как какого? Неужто не знаешь?
Кукоана Мица выскочила из-за стола и убежала из столовой. Урматеку, ухмыльнувшись про себя, снова взял руку Катушки и, уже не отпуская ее, продолжал:
— Вчера вечером из Мициного курятника вылез один цыпленок. Пестренький такой, тощий, шея красная, крыльев и тех еще нету. А жадный — прямо страсть! Прыгает по ступенькам крыльца, ищет, чего бы клюнуть. Посмотрел я на него… (Все сидевшие за столом почтительно и с любопытством слушали. Кое-кто все еще жевал, смакуя последний кусочек, прежде чем отставить тарелку.) Только что мог найти этот курицын сын? Ничего, ведь ступеньки Мица подметала!.. И вдруг он увидал плевок. Клюнул и ничего не понял. Опять клюнул и опять не понял, можно этим добром поживиться или нет?..
— Ой, дядюшка, как бы ты на них хворь какую не нагнал! — На этот раз руку Урматеку взяла Катушка и легонько погладила ее. И впрямь наевшийся до отвала Лефтерикэ, въяве представив себе все, о чем повествовал Урматеку, начал бледнеть, словно получил удар под ложечку. Побледнел и Иванчиу. Оба они выпили по полному бокалу красного вина, стараясь прогнать неприятное ощущение.
— Клюет цыпленок, клюет и никак понять не может, что же это перед ним такое… — медленно и отчетливо продолжал рассказывать Урматеку, внимательно наблюдая, какое действие оказывает его рассказ.
Лефтерикэ будто кто-то сдавил горло рукой. Полоска щек, не заросшая бородой, побледнела. Он покачнулся, встал и вышел из-за стола. Иванчиу закашлялся — и у него подкатило к горлу. Тудорикэ глубоко вздохнул. Кукоана Лина достала треугольный кружевной платочек, благоухавший флердоранжем, и уткнулась в него. Урматеку торжествовал!
— Вот оно как! Такова и моя скудная пища!.. — Урматеку громко расхохотался. Ему стало весело и легко, Он отомстил всем, кто объедал его и будет объедать до конца дней, жадно чавкая и пачкаясь до ушей липким салом.
Теперь и Урматеку в первый раз за весь ужин прикоснулся к еде, отломил корочку хлеба, положил на язык и смочил глотком вина. Прохлада и свежесть, от которых повеяло самой жизнью, наполнили его рот и растворили эту чистейшую пищу. Янку успокоился, словно выпил целебное снадобье.
Он сидел с застывшей улыбкой и глядел в пустоту. Среди тишины, воцарившейся за столом, он чувствовал себя хозяином, ставящим присутствующих на место, когда бранью, а когда и жестокой шуткой. Он глядел на всех, словно никогда их не видел, рассматривал по очереди каждого: тусклые глаза, обрюзгшие, густо нарумяненные щеки, косо повязанные галстуки, серьги в дряблых и серых от старости мочках, щеки, выбритые в потемках, с торчащими островками щетины…
Читать дальше