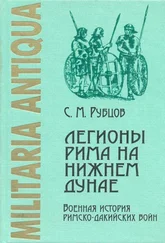Словно сорвавшись с цепи, во дворе захлебнулись лаем собаки. Шум, гам, суматоха, пронзительные голоса слуг, странные выкрики донеслись до столовой. Наконец-то Урматеку представилась возможность дать выход бушевавшей в нем ярости. Ударом ноги он распахнул дверь, которая грохнула, ударившись об стенку, и свирепо рявкнул:
— Что там у вас?
— Блаженненькие пришли, хозяин, — ответил ему кто-то.
— Пусть войдут! — И Янку вдруг улыбнулся и, обернувшись к Иванчиу, сказал:
— Боярин — он и есть боярин, так-то, басурман. Будут тебе к кофе и ряженые.
И хлопнул Иванчиу по плечу так, что пошатнулся стул.
Все, кто еще не успел улизнуть, уселись снова за стол.
Урматеку знал этих блаженненьких, кобзаря Ионикэ и двух его сестер. И еще он кое-что знал, но это уже было ведомо лишь ему и Иванчиу: историю попа Госе, который, попав в беду, молил Иванчиу помочь ему. В те времена Урматеку еще не водил дружбы с бароном Барбу и был всего-навсего мелкой канцелярской сошкой, тогда как у Иванчиу была уже лесопилка и слыл он крепким хозяином. Но, несмотря на это, с первых дней их знакомства — а было это давным-давно — Янку отчасти по собственной наглости, а отчасти потому, что Иванчиу был тюфяк тюфяком, обращался к нему на «ты», хотя и был его моложе. Когда же Янку сравнялся с Иванчиу по богатству, запанибратство его перешло в издевку.
Поп Госе слезно на коленях просил тогда Иванчиу помочь ему, но тот уперся — и ни в какую. Урматеку ему и скажи: «Дурно, брат, поступаешь! Ведь и у тебя дети! Кто знает, что с ними случится!»
Запали в душу Иванчиу эти слова. Ничего на свете не тревожило покоя его холодной невозмутимой души, а проклятие, тяготевшее над детьми попа Госе, растревожило этот покой. И вот эти слабоумные дети с шумом и гамом шли сюда. Ионикэ и две его сестры, Марицика и Василика. Распевая в три голоса, поднимались они по лестнице. Кобза надтреснуто бренчала под короткими пальцами Ионикэ, песни же, хоть и были у всех разные, сливались в одну. Ионикэ бубнил на одной ноте что-то вроде злободневных куплетов:
Врать я вам не стану:
Домнул Брэтиану [3] Ион Брэтиану (1821—1891) — лидер румынской Национально-либеральной партии, глава кабинета министров в период 1876—1888 гг.
Собирает оптом голоса…
Сестрицы же тянули старинную любовную песенку:
Птичка, что гнездышко вьет,
Редко о счастье поет…
Все это сливалось в какое-то гнусавое гуденье, в котором и понять-то было ничего невозможно. Сестры были длинные, тощие, а Ионикэ, который всегда ходил держась за их юбки, — приземистый и плотный. Небритый, с толстыми, всегда мокрыми губами, он мутно смотрел из-под полуопущенных припухлых век. Длинные редкие усы его то и дело попадали ему в рот, и он жевал их своими голыми, без зубов, деснами. Из каждого уха торчало у него по пучку волос, похожих на мочалку.
Василика, окончательно потерявшая разум, одета была в подаренное кем-то мужское пальто. На ногах кожаные галоши. Платок на голове повязан низко, до самых синеватых, прозрачных, словно стекляшки, бессмысленных глаз. Марицика, как ребенок, укутана в перекрещенную на груди и завязанную на спине латаную-перелатанную шаль. Пряди седых волос лезли ей прямо в глаза.
Не успели они появиться в дверях, как Урматеку бросил на пол монетку и поглядел на Иванчиу. Старик поежился, поерзал на стуле, пока наконец решился. Его монетка, как бы нехотя, со страхом и робостью расставшись с державшими ее пальцами, упала возле его стула. Монеты звякнули об пол, и блаженненькие с криком и руганью кинулись их искать. Возня, свалка. Неуклюжей неловкостью движений и торопливостью они напоминали ребятишек, дерущихся на пустыре из-за бабок. Но они были уже старые и дрались яростно, по-звериному, свирепо урча и воя из-под стола.
— Ну, будет вам, будет, а то собак спущу, — окоротил их Урматеку, видя, что потасовка становится нешуточной. — Не слышите, что ли? Вылезайте, всем дам по денежке!
Ионикэ с кобзой за спиной, оттолкнув остальных, бросился к ногам Урматеку. Встав на четвереньки, он уставился на него кротко и ласково, словно дворовый пес в ожидании кости.
— Ну-ка, изобрази медведя! — приказал хозяин.
Ионикэ поднялся, прижал к груди руки, будто изображал собачку, которая служит, высунул широкий растрескавшийся язык, загнул его кончик чуть ли не до носа, и принялся с невероятным грохотом тяжело подпрыгивать на пятках. Женщины тявкали и вертелись вокруг него, словно собачонки. Кто-то из гостей швырнул еще медяк.
Читать дальше