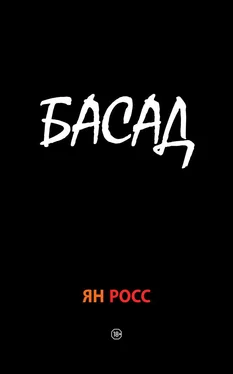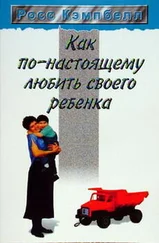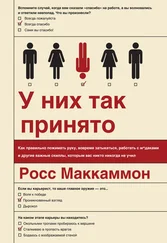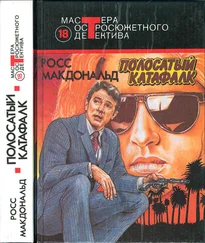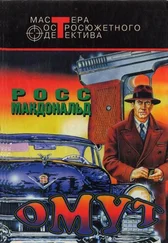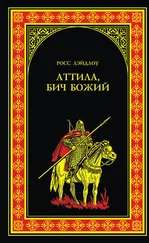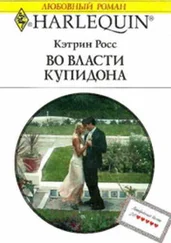Но ипотека и мобильник — не первопричины, а следствия. Главные оковы инсталлируют у «свободных» людей в головах в виде социальных конвенций и красивых идей о том, что счастье достигается путем приобретения товаров и услуг, о том, что прогресс ведет в прекрасное будущее, о том, как важно, нужно и здорово карабкаться по карьерной лестнице к некоему мнимому успеху, или о каком-то там неуклонном росте уровня жизни… Все это с детства инсталлировано в голове современного человека, это довлеет над нами и это необходимо непременно выполнять, чтобы не «остаться на обочине», а «шагать в ногу с жизнью».
Так, и со свободой разделались, что же я еще планировал… — я с нарочитой задумчивостью почесал затылок, — а, вот! Сейчас мы это присобачим к нашей пресловутой свободе и к уже затронутому вопросу религии, — я заговорщицки потер ладони. — Раз дельта и вытекающие из нее стремления являются источником страданий, то в тот момент, когда с людей сняли кандалы и впрягли в мечту, уже не руками, а мозгами, значит… нынешние «свободные» рабы неминуемо будут страдать гораздо больше… или там… глубже когдатошних взаправдашних невольников.
Однако в современном мире о страдании говорить как-то даже не вполне… м-м… корректно. Оно оставляется за скобками, что не может не показаться странным в исторической перспективе. Испокон веков все большие религии честно признавали наличие страдания. А с недавних пор расцвел культ притворной радости и показного счастья, где все обязаны натужно улыбаться и корчить из себя черт знает что. И тема страдания заметается под ковер. Отчасти причина в том, что свободный рынок слеп к таким вопросам, но это лишь потому, что мы не задавались целью оптимизации прогресса в направлении счастья. А… может, стоит?
Да, непросто. Вероятно, даже гораздо сложнее, чем оптимизировать по принципу благосостояния. Но ведь это лучше, чем тупо пропагандировать культ притворной радости и показного счастья, запрещающий даже говорить о страдании. Давайте говорить! А то как-то странно выходит: сколько человечество себя помнит, страдание было неотъемлемой частью бытия, потом начался прогресс и… трах-тибидох, фокус-покус и опаньки — страдание будто бы исчезло само собой — даже не фигурируя в повестке дня.
И это подводит нас вопросу, прозвучавшему в самом начале и оставленному напоследок. Зачем, собственно, это рассказывать?! — я отстучал подобие барабанной дроби. — Я рассказывал не зачем, а почему… Потому что это важные темы, о которых не принято говорить. А если уж о чем-то из этого и говорят, то с корыстными целями подрядить нас на очередной крестовый поход за некой мечтой. А я не намереваюсь извлечь особой выгоды… если, конечно, не считать удовольствия насладиться вашим смятением… — я на секунду застыл, любуясь, как это у меня вышло. — Мда… не без этого. Так что, вы уж простите, но… если серьезно, я столько распространялся о страдании не с коварной целью испортить настроение перед сессией, а потому что, нравится вам это или нет, оно все равно есть и происходит со всеми нами. И чтобы иметь возможность что-то предпринять, первым делом стоит это осознать. Даже одно осознание уже само по себе неплохая штука.
И еще не помешает вникнуть и заняться буддийскими практиками, потому что эти ребята серьезно подошли к вопросу. Их, по сути, ничто другое не интересовало. Они единственные, кто систематически изучал механизмы страдания и счастья, занимаются они этим уже больше двух с половиной тысяч лет, и им есть много чего сказать.
Спасибо за внимание и, можно сказать, выдержку, — я театрально поклонился. — И удачи на экзаменах. Разумеется, о страдании там спрашивать не будут, но мы с вами находимся в храме, в эпицентре возникновения самых амбициозных дельт и мечт. Я от всей души советую в дальнейшем вернуться к этим вопросам. И лучше не слишком откладывать.
Спасибо:
Елене Коркия — помощь и поддержка всяческого сумасбродства;
Владимиру Клюзнеру — редактура развязки и частичная редактура редактуры;
Жене Финкелю — байки о веселых похождениях, за которые ему порой стыдно;
Анне Reiwen — изящные находки и самоотверженная борьба за смысловую целостность повествования;
Дорону Клепачу — всестороннее содействие, которому не стали преградой даже языковые барьеры;
Юлии Олеговне Польчин — феноменальное внимание к деталям и латание прорех редактуры;
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу