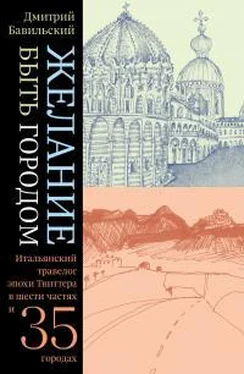Липпи любил писать развалины, разомкнутые рождественские вертепы и хлева под ветхими, хлипкими крышами, набитые животными и соломой и ожидающие Гаспара, Мельхиора и Бальтасара. Все эти храмы лишены фасадов и боковых стен; троны похожи на спускаемые аппараты, почти всегда неполные из-за святых фигур и поэтому точно «погрызенные», обращенные в скорлупу; крепостные валы, заросшие мхом, и крепости, практически сравнявшиеся с плюшевой землей, одичалые комнаты, которые нужно непременно покинуть, чтобы трещины и кракелюры стали заметными.
2
На срединной фреске цикла, где Стефан умудряется одновременно проститься с Юлианом в левой части у скал (святой в розовой рясе стоит на коленях перед сизокрылым кардиналом в шапке, целует ему руку, и нимб у него выполнен точно в технике каслинского литья), спорит с книжниками в синагоге и прибывает с миссией в Киликию.
Рябь мраморных стен синагоги с изумрудными и песчаными подпалинами (два зарешеченных фасадных окна выглядят в окладах своих порталами в иные, правильные миры) плавно переливается через торцовую стену, чтобы слиться с переливами скал, поросших вязкими, стелящимися травами.
Низ этих камней одет в плавные тона светло-коричневых и песчаных оттенков, но чем ближе к небу, тем они багрянее, точно дело происходит на дне какого-то ада, освобожденного от мучений присутствием святого Стефана. Он размыкает собой тесноту и дает свет. Его ипостаси со временем обращаются в сгустки запекшейся энергии и щели в пространстве.
3
Потому что в третьей и самой нижней мизансцене Стефан, погибший мученически (что показано на узкой центральной стене – в соседстве с алтарным витражом, где святого побивают булыжниками и лишь небольшая часть его мучений словно бы 25-м кадром воткнута в сцену похорон), лежит на смертном одре при входе в Иерусалимскую базилику.
Кессонный потолок и колонны с капителями коринфского ордера обрамляют сцену прощания, в которой нет больше места природе, ландшафту, так как в отныне бестрепетном теле святого нет более жизни.
Отмечу еще раз: соотношение «живой» и «неживой» природы интерьеров и видов, занимающих в каждой из картин разное количество территорий, должно бессознательно объяснять зрителю подспудную подоплеку сюжета, который всегда – про количество жизни и смерти, аранжированных опасностями или бытовыми обстоятельствами.
Небытие – то, что всегда внутри. Под крышей, за стенами. Святой Стефан мертв и медленно каменеет под кессонной шоколадкой центрального нефа, вновь приходя в состояние личинки с руками, похожими на лапки.
Историк увидит рядом с ним Козимо Медичи и Пия II в кровавой папской мантии, а также автопортрет самого Липпи и прочих официальных и неофициальных лиц (где здесь Лукреция Бути?)…
Немного волхв
Искусствоведы говорят о Липпи в самых превосходных степенях, но с постоянными оговорками, как будто он хорош сам по себе, но проигрывает в контексте, от сравнения с другими.
В этом смысле показательно высказывание Беренсона, убежденного, что «если бы одной привлекательности, в самом лучшем смысле этого слова, было достаточно, чтобы быть великим художником, то Филиппо Липпи был бы одним из величайших, может быть, более великим, чем все флорентийцы до Леонардо да Винчи.»
Виппер и вовсе ставит Липпи «во главе группы рассказчиков», то есть художников как бы по определению вторичных по отношению к мастерам, озадаченным пластическими новшествами и прогрессивными задачами («проблематистам» вроде Уччелло, Поллайоло или Верроккьо) – «живой, не обладающий исключительно крупным талантом, но в силу какой-то особой заразительности своего искусства оставивший очень заметные следы в истории итальянской живописи…»
Несмотря на «второстепенность» и «избыточность» (Липпи-де, важнее всего не мытьем, так катаньем «выразить свое чувство»), именно его картины «почему-то невольно вспоминаются», «когда мы надеемся восстановить в своей памяти характерные черты живописи Кватроченто», ведь со временем «иллюстративность» да избыточность (заполненность деталями) доходят до осязательной зрелости, чтобы много веков спустя обратиться в спиритуальность. Пусть и не такую чистую, как у художников Проторенессанса, транслирующих «силу веры» через минимализм средств, но такую же сильную и неизбывную, тоже ведь вполне мерцающую складками.
Потому что с тех пор коренным образом изменилась сама порода смотрящих на живопись, и там, где предкам мешали избыточность и болтливость, мы видим ту же самую тщету материи, расползающейся перед полным исчезновением и, как в капельнице, нуждающейся в постоянных реставрационных усилиях и консервационных припарках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу