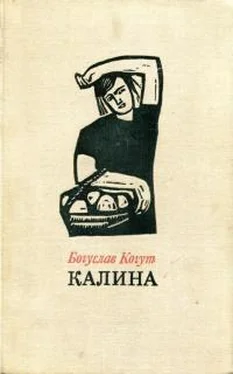Манусь метал яростные взгляды, ритмически двигая желваками.
— Не жуй, жевать тут нечего. Сейчас я тебе все растолкую, философ, теоретик и садист! У тебя передачи, хлеб с маслом. У меня только здешний паек — сухой хлеб, кофе, суп. Вот я и дерусь за этот суп. У тебя будет защитник, у меня нет, о тебе хлопочут, обо мне не хлопочет никто. Я один. И вынужден сам защищаться. От статьи закона и от разных гнид, вроде тебя. Я могу рассчитывать только на собственные силы. Но они у меня есть. Я могу выбить тебе все зубы и сделаю это, если понадобится. Могу пороть тебя каждый божий день и буду пороть, если ты не станешь умнее. Не жуй и не гляди так, глядеть тут совершенно не на что, можешь только заработать пару лишних тумаков, а ведь ты, кажется, тумаки получать не любишь, ты трус и слизняк, который всегда норовит исподтишка, внезапно ударить, выстрелить или бросить камень, это по тебе сразу видно. Я тебе не желаю ни добра, ни зла, мне плевать на тебя, своих забот хватает, но я буду защищаться, даже если для этого придется тебя запороть насмерть. Ясно? Говори! Ясно тебе?
Матеуш даже устал от столь длинной речи, но она не заглушила внутреннего беспокойства и укоров совести. «Ведь не от моего же удара он умер», — успокаивал он себя, но перед глазами у него стоял плачущий Кренжель, и он знал, что не следовало обращаться с ним так грубо и жестоко. Не следовало? Будь он провидцем, он бы и в дерево не врезался.
Время. У меня его теперь много, безжалостно много, время донимает меня днем и ночью, потому что стоит мне только заснуть, как я тотчас же просыпаюсь от собственных стенаний, так давит и жмет гипс. Никогда не знаешь, какой дефект может тебе в жизни пригодиться, когда меня в школе дразнили левшой, я обижался и переживал, зато теперь, хоть и коряво, могу писать в этой тетрадке, другой — не левша — даже так не сумел бы.
Излишек времени убивает, а ведь человеку его отмерено так мало, каждому человеку, значит, и мне тоже. Этому старику, рядом со мной, — не такой уж он, впрочем, старик, ему нет и шестидесяти — осталось всего три месяца, три месяца таких мучений, какие ему и во сне не снились, бедолаге, но он ничего не знает, лежит спокойно и чинит всему отделению звонки. Я сразу понял, что это рак, он говорит: была опухоль в животе, около пупа, сделали операцию, и рана заживает отлично, лучше, чем у кого-либо из больных. Я сразу понял, что рак, но все-таки потихоньку спросил у профессора, тот подтвердил по большому секрету, только чтоб больной случайно не узнал. К нему приходит жена, замкнутая и угрюмая, носит ему цветы, у нее постоянный пропуск, но она ходит не каждый день, я ее понимаю, она уходит отсюда, ежась и прячась, как преступница, ведь она знает все и должна врать ему, возможно, она не врала ему никогда в жизни, в течение тридцати лет их супружества не врала ни в чем — ни в большом, ни в малом, а теперь, когда дело касается самого главного, единственного подлинно важного вопроса — смерти, теперь она врет. И говорит, например: «Леон, милый, этот протезист, что обещал сделать тебе зубы, спрашивал о тебе, как только выйдешь из больницы, надо будет этим заняться, а то у тебя проваливаются губы и ты шепелявишь». Или: «Звонили с работы, спрашивали, нужна ли тебе путевка, конечно, нужна, как выйдешь отсюда, поедешь в санаторий отдохнуть». Она говорит все это, а сама знает, что зубы ему вставят на том свете, что отдохнуть он поедет на кладбище, — знает все это и врет, а я не могу решить, возмущаться мне или восхищаться, это вроде бы правильно, гуманно, но, с другой стороны, это так мрачно, и как подумаю, что и я мог бы очутиться в подобном положении, эта гуманная ложь кажется мне отвратительной, я бы ни за что не хотел, чтобы мне так врали, из жалости, другое дело, что меня не так легко было бы обмануть, впрочем, он тоже, возможно, догадывается, но слушает эти басни о зубах и санатории, чтобы не нарушать гармонию, не расстраивать свою старую, верную и добрую жену, не уличать ее во лжи; если это так, то я не хотел бы знать, что он думает и чувствует, предпочитаю даже не строить никаких догадок.
Двое суток в коридоре, у двери нашей палаты, — тогда я еще не вставал, теперь встаю, хотя неловко и неуклюже, что мне самому смешно, — двое суток умирала женщина, тоже от рака; как она призывала смерть, как выла и молилась, этого нельзя передать словами, я слушал и твердил про себя: «Ну умри же, умри наконец» — и не сомневаюсь, что о том же мечтали все кругом; когда она наконец замолчала и стало тихо, я подумал, что, быть может, она еще жива, поправится, выздоровеет, но она умерла. И еще я подумал, что, доведись мне так мучиться, я бы принял яд или перерезал себе вены.
Читать дальше