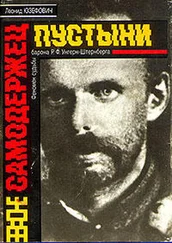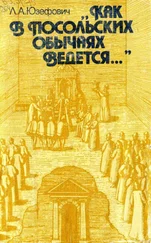Не прошло и десяти минут, как он опустел. Иконы в медных складнях, две книжки и фарфоровую чернильницу Наталья, обтерев от пыли, положила на стол, портрет князя Ипсиланти, криворуко обрамленный серым от старости сосновым корневатиком, прислонила к стене. Остальные вещи, едва осмотрев, побросала на пол.
Бог мой, какая же это была ветошь! Моль тут погуляла на славу, но и без нее мало бы что изменилось. Головные уборы напоминали выпеченные плохой хозяйкой блины, рубахи были в ржавых пятнах, шерстяное одеяло превратилось в кисею, а подбитое облезшим песцом выбойчатое и заячье, по цвету похожее на волчье, производили такое впечатление, будто до того, как попали в этот короб, ими лет десять не пользовались.
Я поднял с полу выпавшую с какой-то вещью бумагу. Это была вложенная в короб опись мосцепановского имущества. В последней строке значилось: “Денег ассигнациями 36 руб., серебром 3 руб., медью 24 коп.”
“Есть?” – спросил я.
Наталья покачала головой, а на вопрос, чего еще недостает, сказала, что шпаги и трубки. Я надел фуражку и с решительным видом направился к двери, лихорадочно соображая, как буду объяснять Сигову, с чего мне вдруг приспичило проверить содержимое короба. Никакого правдоподобного объяснения в голову не приходило, и когда Наталья, понимая мои сомнения, заступила мне дорогу, я самым подлым образом этому обрадовался, хотя и счел долгом сказать: “Почти сорок рублей, шутка ли? Да и шпага чего-то ведь стоит”.
“Не ходите, не надо”, – попросила она.
С хмурым лицом, выражающим недовольство якобы тем, что мне не дали постоять за правду, а на деле – своей малодушной готовностью уступить, я хлопнул рюмку мадеры, налил вторую. Наталья тем временем сгребла в охапку лежавшие на полу вещи и с помощью Феденьки потащила их на двор. Чуть погодя я вышел за ними. Мосцепановские пожитки кучей свалены были на крайней из опустевших к концу сентября огородных гряд. При ярком солнечном свете они походили на выброшенное по смерти бродяги нищенское тряпье, служившее ему и одеждой, и постелью. Наталья поливала его черной маслянистой жидкостью из бутыли.
“Нафта, – сказала она. – С Печоры привезли, из Усть-Сысольска. Григорий Максимович передваивал ее на масло для неугасимых лампад”.
По приказу матери Феденька приволок портрет Ипсиланти и водрузил его сверху. Чиркнуло кресало. Под солнцем огонь был почти не виден, но однорукий претендент на греческий престол пошел волдырями, вспыхнул и скрылся в дыму. Пламя быстро охватило всю кучу. Наталья смотрела на него с пьяным блеском в глазах, а мне стало обидно. Как мальчик побежал за этими вещами к Сигову, унижался перед ним, врал. Чего ради?
Огненные змейки поползли от костра по сухой огородной ботве. Наталья взяла лопату и стала присыпать их землей, чтобы не добрались до сараев и бани. Я заметил, что под моим взглядом она норовит наклониться или отвернуться. Прячет слёзы, решил я, но когда всё же сумел разглядеть ее лицо, то поразился. Оно выражало не печаль, не боль, не горечь расставания с прошлой жизнью, что в такой день естественно было бы скрыть от меня, а что-то вроде мстительного торжества. В то же мгновение я понял, что Мосцепанов жив, и она об этом знает. Она мстила ему, забывшему про нее, не позвавшему ее к себе. Очами души он должен был узреть это пламя, пылавшее у нее на огороде, а на самом деле – в сердце. Я смотрел на него с таким же сильным, но другим по содержанию и по смыслу чувством – хотелось видеть в нем жертвоприношение на алтаре нашего с ней будущего.
Скоро на гряде остался лишь ворох невесомых черных лохмотьев. Ветра не было, но под токами горячего воздуха они сами по себе шевелились, некоторые пробовали взлететь. Наблюдать эту жизнь после смерти было неприятно. Мы в две лопаты закидали их землей и вернулись в дом. Наталья нервически смеялась и тормошила Феденьку, но я не спешил разделить ее радость, подозревая, что добром это не кончится. У моей покойной жены и у Маши такое ненатуральное веселье часто заканчивалось слезами.
Наталья унесла в чулан избежавший огненной казни короб и надолго там застряла. Вышла заплаканная, уселась за стол и, не пригласив меня составить ей компанию, ухарски осушила две рюмки мадеры. Каждую заела конфетой, причем не откусывала от них по кусочку, как раньше, а целиком запихивала в рот. Я ни о чем ее не спрашивал, но не сомневался, что если Мосцепанов мертв, не имело смысла устраивать это аутодафе. Она заговорила о нем сама. Оказалось, его брат иносказательно, чтобы, если письмо переимут, ничего бы не поняли, написал ей, что Григорий Максимович прошлую зиму у него зимовал, а с теплом подался куда-то на юг. После этого ни от одного из братьев писем не было. Как ей кажется, Григорий Максимович из Казани по Волге уплыл в Грецию.
Читать дальше
![Леонид Юзефович Филэллин [litres] обложка книги](/books/390245/leonid-yuzefovich-filellin-litres-cover.webp)