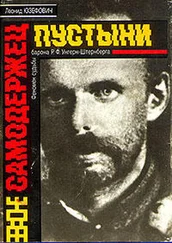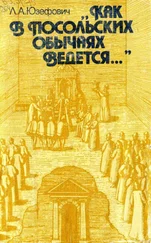Дед стрелять не стал, но утром с другими соседями нагрянул к нему в хату. Краденый мед забрали, вора избили, так что кровью харкал, а лапу нам с братом отдали для забавы, только мне от нее пришло великое горе. Как спать ляжем, Матвей, он пятью годами старше, стращал меня, что вот я усну, а она приползет, схватит меня за горло и когтями раздерет до паха. Я ее боялся до дрожи. Ночами спать не мог, прислушивался, не ползет ли. Однажды из постели тихонько вылез, чтобы она меня на моем месте не нашла, убежал в сад, со страху заблудился там в трех яблонях, стал кричать, пока мать не прибежала. Она потом эту лапу в печке сожгла.
Сколько лет прошло, а что переменилось?
Все мы дети в земной юдоли – потерялись в темноте, тычемся туда-сюда, кричим, плачем. Некому взять нас за руку и отвести домой.
От безделья многое воспоминается. Помню, у деда в холодной клети ульи лежали, я среди них полюбил один играть, а в постели перед сном представлял, будто в них живут маленькие человечки с пчелиными крылышками – вылетают оттуда, вьются по воздуху или сидят на летках, как на лавочках у ворот, жужжат, смеются, и сам я такой же, как они, у меня свой домик есть.
И что?
До плешины дожил, а своего дома нет. Живу в казенном, сплю на досках, хлебаю из дерева, как свинья.
Позже человечки-пчелки прискучили и вместо домика в улье выдумал я себе для предсонных мечтаний свой собственный город. Стоит на горе, обнесен стеной с башнями. Внутри улицы дома все каменные, собор на площади, университет, как в Казани, а жителей немного. Я над ними не то чтобы царь, но вроде того, хотя чинить суд и расправу не требуется, живем как братья. А вокруг враги несметной силой, наш город среди их орд – остров в море. Оно хочет его затопить, ярится, лезет на скалы, но гора каменная высока, стена крепка.
Ты однажды спросила, как так у меня выходит, что лягу, минуту полежу – и уснул. Вот бы, мол, тебе так же. Я сказал, что это от чистой совести, и что, пока прошения свои писать не начал, часами без сна ворочался. А по правде сказать – совсем другое.
Вот уже больше тридцати лет чуть не каждый вечер, на перине лежа или на досках, как тут, или на голой земле, как в походах бывало, от всех отворочусь, пальцы на обеих руках перед лицом выставлю, пошевелю ими, ровно не пальцы это, а живые люди, меня любящие, мной любимые, мои товарищи или подданные, если меня считать царем, или то и другое вместе – да там оно и не важно, живем в любви, чинами не меряемся. Потом закрою глаза – и вот я уже на той горе, в моем городе, и чем ярче и живее всё это вижу, тем скорее засыпаю, хотя вроде должно быть наоборот.
Эту мою тайну никто в целом свете не знает, даже родной брат. Кому без стыда расскажешь, что до седых волос со своими пальцами играюсь? Ты одна будешь знать.
У тебя на стене моя картина висит, если в контору не забрали. Гравирован город Афины, я тебе о нем рассказывал. Над ним – скала с крепостью, еще выше – Парфенон. Сбоку к нему турки мечеть пристроили, но если ее убрать, а над Парфеноном купол с крестом возвести, снаружи точь-в-точь будет как тот город, куда я перед сном ухожу.
Не знаю, снюсь тебе, нет ли, а ты вчера мне приснилась, будто идешь мне навстречу в одной рубахе, ветер ее на тебе треплет. Груди твои под ней – как яблоки под листвой.
Ты только по чистоте своей не вздумай стыдиться, что судейский секретарь раньше тебя это прочел. Он сюда свое рыло совать не станет. За двугривенный, не читая, шлепнет мне печать, чтобы письмо у меня на почте взяли, да и черт с ним, с двугривенным.
Ниже пишу чмок и кружком обвожу.
В это место я губами приложился. Ты здесь тоже бумагу чмокни, и выйдет, что мы с тобой поцеловались.
Разговор Натальи Бажиной с Григорием Мосцепановым
Июнь 1824 г
Послала вам письмо, но на бумаге много ли скажешь?
Вот на Входо-Иерусалимской церкви к вечерне зазвонили. Большой колокол загудел, а стекло в раме треснутое, заныло ему в ответ. Так же во мне душа ноет, когда о вас думаю.
Письмо ваше десять раз прочла, сто раз поцеловала. Бог даст, приедете к осени. Лето не зима, быстро пройдет. Боюсь только, как бы вам от камской рыбы вреда не было. В ней, сказывают, свиной червяк живет. Я вам в письме написала, чтобы вы ее жареную не ели. Ешьте вареную, да последите, пусть хорошо проварят.
Вы от моей стряпни худа не знали, послушайтесь моего совета. Мать и то в таких делах меня слушается. Сейчас-то виноватится передо мной, что, когда я в девках была, вечно костерила меня за мою веселость. Как заладит, ее не уймешь: “Опять зубы на голи, не будет из тебя, Наташка, доброй хозяйки”. Помалкивает теперь. Домовничаю и хозяйничаю не хуже ее, а зубы спрятаны. Поскучнела, как замуж вышла.
Читать дальше
![Леонид Юзефович Филэллин [litres] обложка книги](/books/390245/leonid-yuzefovich-filellin-litres-cover.webp)