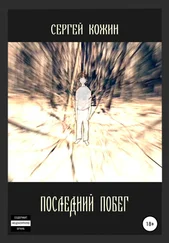— А ты хотел бы как на вертолете? — обернулся Пшеничников.
— Для меня вертолет, что для тебя трамвай, — с понтом ответил нефтяник, — можем не успеть…
— Куда? — тихо спросил Харитонов, осторожно разжимая руку Хорошавина, надежно вцепившуюся в последнюю бутылку пива. Генка молча Сопротивлялся.
— До закрытия магазинов, Саша, надо заехать в ближайший — скоро семь… А мы ведем себя так беспечно, будто у нас в запасе вечность!
— Я все взял, Валера, кроме стаканов, — успокоил его Харитонов, — давай доедем до дома, выпьем — как культурные люди, за столом.
Через полчаса все началось снова, как заход солнца. «Наша жизнь, как летопись, загублена, киноварь не вьется по письму…» — читал Пшеничников стихи русского поэта еврейского происхождения. Подельники социолога кивали головами — в такт, над столом, не пытаясь оспорить очевидные достоинства ритмической и метафорической речи, которой тоже можно воздействовать на мозг. 14 только Куропаткин был категоричен в своей неизбежной правоте.
— Кто за водкой пойдет? — твердо повторил он в третий раз. 14 бросил на стол металлический рубль — с императорским профилем вождя. Алексей Стац достал из-под кожи записной книжки зеленый трешник — он задержал купюру в руке, не скрывая гнетущего волнения, и положил на стол аккуратно, как свидетельство о собственном рождении. Подкожные деньги, похоже, были даже у композитора Хорошавина, который настолько вошел в раж, что потерял рассудок — и тоже достал три рубля. В этот момент Харитонов, известный провокатор, снисходительно улыбнулся и швырнул на стол «синенькую» — пять рублей.
— Сашка, ты Крез, ты Крез! — бросил гитару и начал обнимать сапожника музыкант.
Князь Куропаткин, чтобы сдержать неожиданную слезу, сразу же вышел вон.
Точнее, он торопился в ресторан — с деньгами, которые успел прихватить со стола, чтобы взять два пузырька по сходной, хотя, конечно, и сверхнормативной спекулянтской цене.
Ну, сказал он себе, пойдем-подвинемся, нарежем винтом по улице. Это когда у тебя двести рублей в кармане, ты Князь, король крохалевский. Тогда звонишь в диспетчерскую таксопарка: Народовольческая, 42, болт на 12, то есть четыре рубля сверху — и «шашечная» тачка уже стоит у ворот. А сегодня…
Сегодня он сидел и пил, потому что ему так хотелось. И взгляд жизнерадостного жреца остановился только тогда, когда в стеклянном сквозняке дверей появился мужик в болотных сапогах, отражаясь в зеркалах так, будто вошла бригада шабашников, — и двинулся по залу походкой небольшого речного ледокола, раздвигая стулья с изумленными до визга проститутками.
— Я гляжу, у тебя колоритный ужин, — заметил мужик.
— Калорийный, ты хотел сказать?
— Кала-рийный? — усмехнулся мужик, присаживаясь к столу, голому, как январский снег на лунных гиперборейских плоскогорьях Урала.
— Как ты меня вычислил, маэстро?
— Ты, как и я, находишься в декартовом — трехмерном пространстве: остановиться ты сможешь только завтра, сегодня деньги у тебя должны быть на исходе, а это самый дешевый ресторан в стране… И мы два дня один ящик пили.
— Не бережешь ты себя, папа, — покачал головой Князь Куропаткин, наливая человеку полный стакан водки.
Мотогонки, джаз и горные маршруты — вот все, что оставил папа, отходя от дел, малолетнему сыну.
— У тебя что-то осталось? — поинтересовался Князь, когда вынул стакан изо рта. — А то я сегодня гонцом завербовался, а подъемные спустил — ты, наверное, это заметил…
Они вышли на улицу и встали под черным небом, не глядя по сторонам. Отец достал из глубокого кармана брезентовой робы бутылку «Столичной» и покачал в ладони.
— Достаточно, — коротко кивнул Валерка, — вторую оставь себе — на снотворное…
Печальную досаду испытал Князь Куропаткин, когда в тот же вечер посетил салон троллейбуса маршрута номер два.
— К сожалению, сударыня, я дурно воспитан, — обратился он на русском языке к стоявшей перед ним суровой девушке, — так дурно, сударыня, что не могу уступить место, если это не мои колени.
Куропаткин легко, как турникет, крутанул рядовую пассажирку за обшлаг плаща — и та слетела с каблуков спиной вниз. В надежно подставленные мужские руки — как в финале фольклорного танца. Девичья грудь высоко поднялась, а персиковые губки раскрылись…
— Скотина, — с глубоким чувством произнесла она, позвоночником впадая в театральный пафос.
Но это было все, что смогла сказать девушка, потому что третье, четвертое, пятое и другие слова слились в сдавленное мычание — уста сомкнули уста, как писали сладострастные классики. В зеркале над лобовым стеклом отразилось восторженное лицо водителя троллейбуса.
Читать дальше







![Юрий Асланьян - Дети победителей [Роман-расследование]](/books/407225/yurij-aslanyan-deti-pobeditelej-roman-thumb.webp)