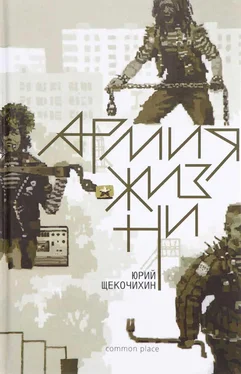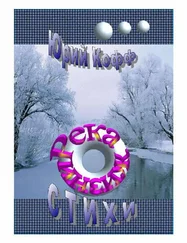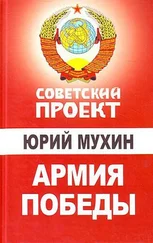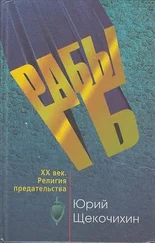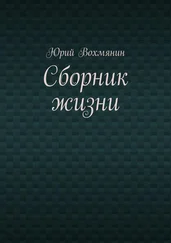Когда мы закончили, уже давно был вечер, давно опустела редакция. Все вместе мы вышли на улицу — погода, помню, была замечательная. На перекрестке остановились, то ли прощаясь друг с другом, то ли готовые еще и еще спорить, искать ответы, разбираться…
Редкие в этот час прохожие бросали на нас подозрительные взгляды: борода и длинные волосы Виталия их настораживали? Необычный значок на куртке у Ильи?
Плыл вечер над Москвой. Мы прощались, понимая, как нужно сегодня учиться и договаривать, и слушать.
* * *
Мне почти 40. Я, конечно, не рассказываю своим детям, за что боролся в возрасте молодых людей, участвовавших во встрече под стенограмму. Но воспоминания двадцатилетней давности маячат передо мной.
В те годы я учился в медицинском институте, и у нас образовалась группа из наиболее активных ребят. Мы ставили перед собой задачу не больше не меньше, как реализация на деле целей и задач, поставленных в Программе КПСС. Мы, как и Илья, мечтали «прорасти в коммунистическое далеко». Намечали конкретные планы морального и социального влияния на своих сверстников. Идеи были простыми: если Оуэн в капиталистическом окружении смог в очень далекие времена устроить жизнь в своей общине на социалистический манер, то что нам мешает при социализме организовываться на коммунистический манер. Мы перечитали Маркса, Энгельса, Ленина. Начались бесконечные разговоры на лестничной площадке института, которая и стала местом сбора для нашей неформальной группы. Мы на свой страх и риск, не имея, конечно, представления о методах социологических исследований, начали искать формы переустройства нашей общественной институтской жизни. А потом наш парень Леня Решке вынес результаты этих исследований на общеинститутское собрание. Это был шок и взрыв.
Но еще больший шок произошел тогда, когда мы выпустили свою стенгазету, которую и вывесили на лестнице.
Кончилось все печально. И хотя никого не смогли отчислить из института — все учились хорошо! — неприятностей было немало. Что это, мол, такое, прорасти в будущее? Что это, не так, как все?
С нами была проведена «идеологическая работа» — разбирательства шли за закрытыми дверями. Раздувались слухи, появлялись нелепые предположения. Все мы были поставлены перед нравственным выбором: или признать свои ошибки, или доказывать свою правоту.
Мы проиграли. Насзаставили проиграть.
Да, мы стали носить джинсы и бороды, но с этого момента в жизни появились какие-то тоскливые нотки. Больше уже никто не спорил о социальной роли медицины в обществе.
Потом мы закончили институт, разъехались, женились, стали думать о хлебе насущном. Жили, работали, не зная, как определить нашу жизнь. Начался застой. Потом — XXVII съезд партии. Суровые требования отказаться от нытья. Перестать ссылаться на прошлое. Перестраиваться.
Но мне не дает покоя та старая институтская история. Тот всплеск нашей юношеской энергии, которого тогда на всякий случай испугались.
Не оттого-то и был у нас в обществе такой длительный застой?
Моя личная жизнь сложилась так же, как и у большинства моих сверстников. Мне самому роптать особенно не на что. Но хотелось бы увидеть реальное обновление нашей общественной жизни, чтобы те, кто войдет в XXI век тридцати-сорокалетними, могли гордо сказать, что социальные изменения общества, его демократизация, его обновление, его моральный климат достигнуты их прямым участием.
Я принципиально никогда не пишу в редакции. Но я отец четверых детей. И уже с этой позиции обязан вспомнить то, что было с нами, и что у нас не получилось.
В. Косарицкий, Мурманская область
1.
Как мы познакомились?
Еще была зима, дети шастали по сугробам вокруг редакции.
Он позвонил и спросил: «Как вы относитесь к „металлу"?»
Я расценил вопрос как предложение встретиться. И объяснил, как доехать.
Они появились тогда, когда волна футбольного фанатизма, так озадачившая всех несколько лет назад, не успела схлынуть. Еще кипели страсти вокруг стадионов, но уже поверх надписей на заборах «„Спартак" — чемпион» новые подростки выводили новые слова «тяжелый металл» (чаще по-английски). И вместо воевавших друг с другом поклонников разных спортивных клубов вырастали другие команды-союзники, точно так же, как и футбольные фанаты, отстаивающие символы (мало понятные для взрослого), но уже из иного ряда, не спортивного, а музыкального: «металлисты» — любители жесткого направления в рок-музыке против поклонников более спокойной «новой волны», «ротаристки» против «пугачисток» и т. д., и т. п.
Читать дальше