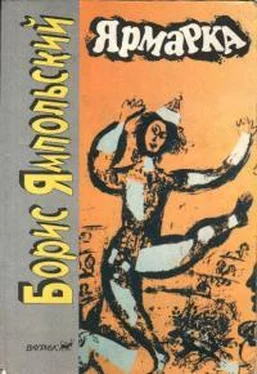Где-то раздались глухие удары, будто ночной бочар обивал гигантскую, заключавшую в себя весь город немую бочку.
Девчурка забирается в нишу, к Мадонне с почерневшим отбитым носом, и, прижавшись к каменной заступнице, закуривает фильтровую сигаретку, и, жадно затягиваясь, попыхивая глядит вместе с Мадонной на ярко освещенные, уютные, счастливые окна отеля и, не докурив, по-жигански цвиркнув, давит каблучком еще горящий окурок.
В ночном кабаре громко заиграла музыка. И вдруг слышится тоненький подголосок, и непонятно — это скулит ветер в каменной нише старого города или это — она, это то, что безмятежно, безвозмездно сохранилось в ее младенческой душе. Открыв сумочку, она глядит в крохотное зеркальце, припудривает и так уже белое зачумленное личико, вытаскивает «живопись», и еще гуще смолит веки, и, раза два тренированно сама себе улыбнувшись, отклеивается от Мадонны, и снова заведенной куклой лунатически ходит своей вихляющей, своей доступной, отдающейся всем ночным теням спецпоходочкой.
Так почему же за тысячу верст от Лигурийского моря, отделенный тысячью дней с их суетой, болью, обидами, вспомнил я эту девчушку с пестреньким веером и сухим цветком в волосах на панели у отеля «Коломбия»? А Бог весть почему...
— В тот день я очень торопился, неосторожно заехал колесом на осевую и не заметил, что за мной нарочно едет и наблюдает милицейская машина. Она обогнала меня и дала знак — остановиться. Из машины, как куколка, вышел красавец майор с ангельским лицом, в новом габардиновом плаще и щегольских начищенных сапожках.
— А ведь придется вас послать на экзамены, — сказал майор.
— Извините, но если бы вы знали, товарищ майор, куда я торопился! — пытался я перевести разговор на легкомысленные рельсы. Но это успеха не имело.
— Придется, придется, — сказал майор и кликнул кого-то.
Из машины неохотно вылез капитан с лицом кинематографического злодея — низкий лоб, перекошенная шрамом щека.
— Капитан, есть у вас направление на экзамен? — спросил майор.
Капитан мрачно глядел в сторону:
— Нет.
— Ваше счастье, — сказал майор. — Ну что же, сделаем прокол.
— Надо так надо, — покорно сказал я, протягивая талон.
— Капитан, у вас есть компостер?
— Есть, — так же мрачно, глядя в сторону, сказал капитан.
В это время заморосил дождик, и красавец майор юркнул в машину.
— Пробейте там, капитан!
Капитан-злодей вынул из кармана компостер и все так же мрачно, глядя в сторону, тихо сказал мне:
— Пробью тебе мимо. — И как бы с усилием нажимая на компостер, он щелкнул впустую.
Рассказчик — старый тертый автомобилист — вздохнул:
— Иди после этого верь в физиономистику.
Эстрадный куплетист, вечный бродяга и одиночка Лепа Синенький получил комнату и пригласил на новоселье своего друга, знаменитого украинского актера Б.
Комната большая, гулкая, совершенно пустая, пахнущая холостяцким сиротством, и только по голым, с рваными обоями стенам развешаны бумажки: «Вешалка красного дерева», «Козетка»...
Б. сразу входит в игру, барски скидывает с себя шубу и осторожно вешает ее на воображаемую вешалку. Он останавливается у «трюмо красного дерева», он прихорашивается, он сдувает пылинку с лацкана, он настраивает свое лицо — оно хмурится, оно важничает, оно улыбается, — он как бы подбирает маску и, остановившись на томно-вежливой улыбке, вступает в апартаменты, шаркает ножкой, раскланиваясь с хозяевами, с ним и с ней, отвечает на приветствия, с кем-то знакомится, капризным голосом повторяя: «очень приятно», «ужасно приятно».
Теперь он знакомится с «библиотекой» хозяина. Навешанные друг над другом бумажки сообщают: «Шекспир», «Шиллер», «Бабель».
Он идет вдоль стен и разглядывает картины: «Рубенс», «Рембрандт», «Боттичелли».
— Но вкус какой! — говорит он.
Наконец он подходит к «козетке» — расстеленным на полу газетам «Радянське село» и лениво, салонно укладывается, заложив ногу за ногу, закуривает воображаемую трубку, пропускает дым кольцами, принюхиваясь к табаку «Золотое руно».
Теперь подыгрывает хозяин. Он молитвенно открывает дверцу «бара красного дерева», он зорко вглядывается в его роскошную золотую глубину, в глазах его рябит от изобилия иностранных этикеток, разнокалиберных фигурных бутылок, но вот он наконец увидел то, что ему нужно — ту единственную, ту заветную, испанскую, древнюю, XVII века, королевы Изабеллы, или святого Франциска, или кого-то там еще, кто был в Испании или где-то там в другом месте, — в истории он не так крепок, — он любуется бутылкой, игрой света, переливами, букетом, он приглашает гостя полюбоваться, понюхать... наливая в грубые грешные граненые стаканы «Особую московскую».
Читать дальше