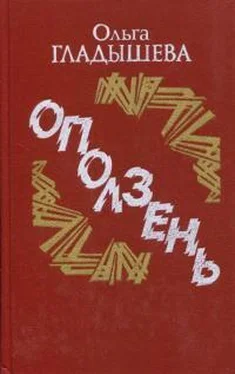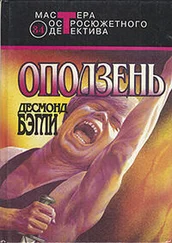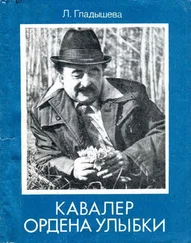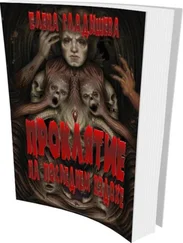Звучала в столовой английская, немецкая речь, раздавались ссылки на Прудона, Сен-Жюста, Гегеля, потом стал и Маркс упоминаться… Костя горячился, отец сиял глазами, Промыслов-старший посмеивался. Александр Николаевич не вникал, потому что ничего не понимал. Накачавшись в санях до тошноты по занесенным увалам, накричавшись до хрипоты на десятников, инженеров, горных техников, наглядевшись на тупой, больной и смертельно усталый народ, о котором так славно и складно говорилось у них в доме, он воспринимал эти разговоры и сочувствие (он знал, что это искреннее, настоящее сочувствие) как «сливки умственной мысли», в ближайшем обозримом будущем к реальной жизни неприложимые и ничего в ней изменить не могущие. Хотя отец и намекал, что выпавшее из рук борцов знамя есть кому нести дальше.
Отец жил между порывами воодушевления и периодами отчаяния, каждую, как он выражался, победу реакции воспринимая словно личную трагедию. Сын продолжал служить у людоедов — иначе золотопромышленников отец не называл. Был он в глазах сына человеком исключительным, недоступным мелкой суете. Неустанно подогревая в себе внутренний протест против монархии и засилья людоедов, он никогда не терял надежды, что придет великий час возмездия.
«Еще вчера я беседовал с вами, а ныне черный лик смерти внезапу накрыл меня. Приидите, о, братие и друзи, и вси, знаемии мя, и целуйте мя последним целованием».
Над заиндевелым дымящимся лесом кладбищенских крестов и оград струился и уплывал тленно сладкий синий дымок из кадильницы. Замерзший маленький попик читал треснувшим тенорком скоро и робко. Потупившись, Александр Николаевич стоял у разрытой могилы.
«Все стирается, все проходит… Неужели я забуду и голос отца, как почти забыл голос мамы? Останется только самый звук, интонация, но и она постепенно погаснет в памяти?.. Что есть память? Что есть прошедшее, которое мы силимся зачем-то удержать в себе?.. Зачем?..»
Под белым погребальным покрывалом угадывались сложенные руки отца. Редкий иней слетал и, сверкая, успокаивался на них.
С забившимся сердцем Александр Николаевич вспомнил последнее слабое пожатье, каким отец ответил на его прикосновение.
— Скажи мне что-нибудь? — почему-то стыдясь, попросил он тогда, желая с отчаянием, чтоб умирающий его напутствовал, завещал ему что-то самое главное, что он должен знать, оставаясь на свете один.
— Ну, что я тебе скажу? — с капризной слабостью возразил отец, измученный хворью, и закрыл глаза, обведенные коричневыми кругами. — Что я тебе скажу? — прошептал он еще раз.
…Тогда он нащупал на постели сухую отцовскую ладонь и сжал ее. И она последний раз ответила ему чуть слышно.
— Руки-ти, руки-ти развяжите ему, — зашушукались старухи, окружавшие гроб. — Так и на тот свет пойдет со связанными руками? Ему перед другими обидно будет. А палочку-ти положили, чтоб подпираться?
Черные платки и согнутые старушечьи спины заволновались, скрыли от него гроб, что-то там делали с отцом, необходимое перед его безвозвратной дорогой.
В сущности, он плохо знал своего отца, и жизнь его осталась тайной, как жизнь чужого. Его идеи он отвергал как заблуждения, не делил ни его страхов, ни восторгов. Казалось, еще успеется, еще будет время выслушать. И вот все кончилось молчанием без ответа, без отзыва, молчанием сомкнутых губ, век, холодом сложенных рук.
Здешние буряты могут назвать своих предков по мужской линии в двадцати пяти поколениях. Кого знает он? Какое-то смутное предание, что дед жил по одну сторону речки Оскол, а бабка по другую? И где эта речка? Лежит она где-то под толщей льда, в занесенных пургой по макушку кустарниках, предназначенная отныне ему быть единственным знаком его начала. К нему пришло странное ощущение его собственного исчезновения, растворения в роде частицей, как взвесь песка в воде.
— Примите мои соболезнования, дорогой, — неторопливо и важно сказал известный в городе купец, разбогатевший на оптовой торговле. Припухшие умные глаза его слезились на морозе, и мочка уха побелела.
— Спасибо, что пришли почтить… прошу и на обеде поминальном присутствовать, — с трудом выговорил Александр Николаевич, глядя на эту мочку.
— Да-а, — вздохнул купец. — Давно ли матушка, и теперь вот… Я, знаете ли, уважал талант родителя вашего, хотя, конечно, он был странных взглядов человек. Вы-то, однако, ошибок его не повторили. — Купец перекрестился, как бы одобряя Александра Николаевича. — Он ведь, если помните, семейство наше все в портретах изобразил. В столовой теперь висим. Так сказать, основа купеческого древа-с… Я, собственно, по случаю здесь, своих навестить, некоторым образом — годовщина. Гляжу, и вашего подвозят. Надо, думаю, подойти проститься, знакомцы были.
Читать дальше