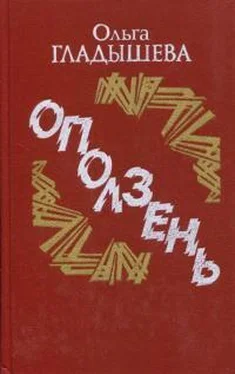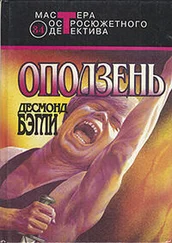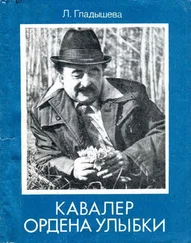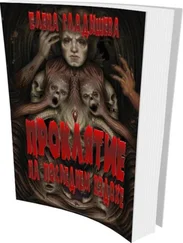— С той поры сучков-то наломано, не счесть. Опять же бури бывали разные, — уклончиво сказал Иван, снимая у Александра Николаевича рюкзак с плеча.
— Иван! — решился он на последнее. — Я тебя соавтором включу.
Некоторое время Тунгусов боролся с собой, волнуясь и примериваясь и взглядывая с недоверием на бывшего управляющего. Но азарт старого землероя-горщика уже ожил в нем, хотя и охлаждаемый старческой осторожностью.
Из непозабытого опыта знал Александр Николаевич, что страсть эта, пока себя не исчерпает, десятилетия, до самой смерти может жить в человеке, как огонь под слоем торфяника, и особо живуча она в неудачниках, кому не фартило никогда, кого только манила удача — девка сладкая, гулящая, а в руки не давалась. Те, уже ногой об ногу заплетаясь, погнаться за ней готовы, потому что, пока человеку крупно не повезет, он вроде и поумнеть не в состоянии.
Мало ли таких видывать приходилось, еще сильнее, чем Иван, уязвленных мечтою, со взором вомлелым, зачарованным…
— А найдем, Александр Николаевич? — усомнился, сдаваясь, Тунгусов.
— Найдем, Иван. Зря, что ли, я сюда за столько верст ехал? Секретарь райкома обещал помочь с лошадьми.
— Чудно! — усмехнулся Иван.
— Что?
— Секретарь райкома.
— Иван, давай прошлого не трогать, — строго сказал Осколов.
— Дак в прошлое, выходит, едем…
«Охти мнешеньки», — вдруг донесся тихий, как шелест, вздох от крыльца. Там стояла старуха бурятка, подпирая щеку ладонью. Горбоносая, несмотря на годы, прямая станом, она глядела непроницаемо щелками припухших глаз. Но Иван, видно, научился понимать даже ее вздохи. Он стал отказываться, упираться, опуская взгляд, рыскающий, дрожливый от искр озорства, как в молодости.
— Сайнабайна! — поприветствовал Александр Николаевич старуху на позабытом языке.
— Здравствуй! — спокойно ответила она по-русски.
— Иван, это что же, жена-то у тебя? — понизил голос Александр Николаевич.
— Ну, и́нька она у меня, да, нерусская, — неохотно подтвердил Иван. — Аюной звать.
— Хубун есть, а? Бацагашка?
Он спрашивал про детей, случайно вспомнив, что хубун — мальчик, а бацагашка — девчонка.
— Не дал бог. — Досада выразилась на лице Ивана. — Бабка Ханда нас, стервь, прокляла. Будто мы виноваты, что у нее стада отымали, буржуйка зажирелая, кратировали, вишь, ее. Нужны нам ее стада на фиг.
— Не ругай хучшээ, грех, — едва разжала темные уста Аюна.
Только теперь Александр Николаевич разглядел, как она нарядна, будто в гости собралась. Бурятский чегедек, длинная безрукавка, был расшит жицей — красным шерстяным гарусом, на худой шее — маржан, коралловые бусы; смуглые пальцы необыкновенно изысканной формы унизаны серебряными перстнями.
Александр Николаевич заметил, что старуха искоса следит за ним усмешливым луноподобным глазом.
— Заходи в дом, хани нухэр, заходи, друг! — певуче позвала она.
Александр Николаевич обвел взглядом просторный двор, обсаженный старыми елями; скамейка под ними была цела, как ни в чем не бывало. Терны дикие, правда, Иван вырубил и сеновал новый построил.
— Не позабыл, как остатний раз тут сиживали? — спросил Иван у него за спиной.
Александр Николаевич промолчал. Он уже поставил было ногу на ступеньку, но передумал и решительно повернул обратно, к скамейке.
— Ты чего же? — удивился Тунгусов. — Аль душа дрожмя?
— Не могу. Иван, уволь. Не войду.
Он боялся. Что он будет потом вспоминать, если увидит сейчас, что все там теперь по-другому? Этого он не мог позволить себе разрушить.
— Что ж, понять можно, — сказал Иван. — Видениев опасаешься? В наши годы видения — беда, замучают человека, если волю им над собой дать… Мы с Аюной тоже иной раз сидим и глаза закроем, пока жизнь нас обратно не призовет… Закуришь? Не хочешь? Ну, посиди так.
— А ты курить на старости лет научился?
— Ты же знаешь, до тридцати годов в рот не брал. А курить два раза научался. Первый раз — как из окружения выходили. Было нас двести тридцать человек, а к своим вышло тридцать. И охромел я тогда же, раненый был. А другой раз… кукуруза эта самая. Бригадиром я был. Надо, чтоб росла, а она не растет, подлая! Из-за этой кукурузы опять я курить начал. Кем я только не был, Александр Николаевич!.. А ты скажи, ну, мне-то скажи: почему так поздно спохватился? Разве я тебя не ждал, не помнил? Иной раз так туго, что глаза бы зажмурил — и к тебе: давай, мол, энто дело обратно раскручивать, душа скучает… да… Нет, ты опять себя зажимаешь вот так… скотничать, плотничать идешь и ни об чем таком стараешься не думать вовсе, как бы не было ничего, кроме трухлявости и покорства… Ну, скажи про себя: про что думал, об чем страдал?
Читать дальше