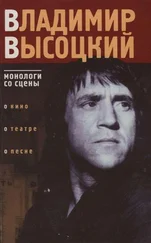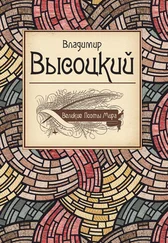А потом у кого-нибудь дома. К себе идти не хочется, и остаёшься, и стараешься уснуть одна, а получается — не одна.
Часто получается, что не одна. Раньше звонила и врала матери или подруги звонили как про Ирину тогда давно… всё повторяется ужасно. Кстати, тот художник — это он заставил её аборт делать, хотя врачи отказались. У неё что-то было совсем плохо с яичниками, простыла она страшно, ходим-то мы все в летних трусиках, чтоб потоньше и красивее, а тёплые — попробуй-ка, надень наши. Раздевать начнёшь — со стыда сгореть. Говорят, какие-то французы даже выставку сделали из наших штанов — был колоссальный успех. Расхватали на сувениры и просили ещё, но больше не было. Потому что — дефицит. Ирка мучилась, мучилась, она его всё-таки любила, паразита, гнусный такой тип, правда, без бороды, но типичный богемный мерзавец. Он с ней спал при товарищах, и даже ночью тихонько уйдёт — как будто в туалет — а сам пришлёт вместо себя друга. Это называется — пересменка. Ирка мне потом рассказывала, ругалась и плакала. Такая гадость этот Виктор. Я его потом видела, даже была у него с подругой и даже осталась у него.
Как странно: он мне и противен был, как червь, а в то же время любопытно — что сестра в нём нашла. Я почти уже согласилась, он начал меня раздевать, дышал и покусывал ухо, нажимал на все эрогенные зоны, которые у меня совсем не там, где он нажимал, а потом вдруг вспомнила, что, когда сестре делали аборт у него дома, он ассистировал врачу — своему другу. Он сам — этот Виктор — когда-то в медицинском учился, но его выгнали со второго курса. Ирка говорила, как он суетился, стол раздвигал, стелил простынь, готовил инструменты, вату, воду и ещё шутил с ней и подбадривал. Всё это я вспомнила, встала вдруг, нахамила ему, обозвала не то мразью, не то тварью, не помню теперь — пьяна была, оделась и уехала. Он за мной бежал и всё спрашивал:
— Ты что, очумела? Что с тобой?
— А то со мной, что Ирка моя чуть не умерла, что рожать больше не будет, что мать ей плешь переела, что муж нет-нет, да и напомнит. И ещё то со мной, что я их ненавижу — мужиков, которые хуже баб, болтливых и хвастунов, которые семью сохраняют в неприкосновенности: не дай Бог что-нибудь про жену — чуть не до драки, а сами носят домой триппер и всякую гадость. Уйдёт от кого-нибудь, не подмоется даже, а через полчаса к жене ляжет и расскажет, как устал, а она его ещё пожалеет и погладит ему спинку, чтобы снять напряжение, и даже не требует уже от него исполнения супружеских обязанностей. Это уже давно — раз в две недели. Она-то думает, что это она виновата, растолстела, дескать, не крашусь, хожу Бог знает в чём, а он усталый, он работает, денежку, большую денежку в дом тащит, утомился, добывая, а он просто сыт, пьян, нос в табаке, и сегодня у него уже две было. Да и с ними-то он так — минутку, не больше, больше уже не может. Но они говорят, что довольны, деньги у него — вот и довольны, а он верит, что из-за мужских его качеств. Вот что со мной.
Рано я стала замечать, что нравлюсь мужикам. И учителям, и ребятам из класса, и просто прохожим на улице — они всегда оборачивались и по-особенному на меня глядели. И было мне это приятно, и я шла и нарочно не оборачивалась, оглядывалась и знала, что они смотрят. Летом я ездила пионервожатой в пионерский лагерь от маминой работы. Плохо теперь помню все лагерные ритуалы — линейки, подъёмы флага, военные игры и маскарады в конце каждой смены. Хотя ребята придумывали разные смешные костюмы и мастерили их Бог знает из чего: из папоротника — юбки и головные украшения индейцев, из картона и палок, покрасив их серебряной краской — доспехи и оружие. Я вместе с ними сочиняла какие-то дурацкие скетчи и сценки из жизни марсиан, родителей и школы. Я потом вспоминала это часто, когда училась в ГИТИСе. Я училась в ГИТИСе. Правда. Меня оттуда отчислили за моральное разложение. Потом, но пока рано об этом, да и вспоминать жалко и противно.
Ещё в лагере, помню, как мы, вожатые и мужских, и женских отрядов — повзрослевшие уже дети — уединялись в лесу, пели, пекли картошку и целовались с мальчишками в кустах и в шалашах. Мальчишки шарили по телу, дрожали от желания, говорили иногда: «Эх ты, целоваться ещё не умеешь», и сами — мускулы, как камень, глаза безумные или закрытые, и гладят грудь и колени, и всё делают не так, как надо — тогда и я не очень знала, только по Иркиным рассказам, да и не допускала тогда особых уже вольностей.
А потом я влюбилась. Даже и не то, чтобы влюбилась, а закрутил он меня, Николай. Заговорил, запел, задарил и зацеловал. Был он на восемь лет старше, популярность у него была невероятная.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу