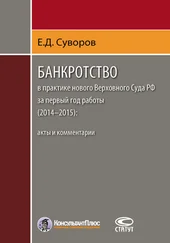— Я всегда интересно говорю, только меня не слушают. На этом столбе сидел ястреб, — проговорил Иван таким потерянным голосом, как будто Ганя свалил не подгнивший столб, а зацепил за угол Иванов дом. — Я отдыхал на спиленном столбике, а ястреб — на высоком… Мы тут часто вдвоем сидели, — Иван кивком указал в небо, где высоко над поляной плавал ястреб.
— Неправда, — сказал Ганя.
— Почему неправда? Мы давно с ястребом дружим.
— Садятся разные, — не соглашался Ганя.
— Я своего ястреба знаю… Бывает, и другой сядет, а больше всего один и тот же садится — мой. Ястребиный столб выдернул! Кто тебя просил? — вскричал Иван.
— Там еще вон сколько столбов, — успокоил Ганя Ивана, показывая на чернеющие возле черемух столбы, оставшиеся от усадьбы Бондаренкиных.
— На тех столбах он не любит сидеть. Низко.
Ганя не сдавался:
— Тут кругом лес, березы на берегу Индона — места ему хватит.
— Да что береза — моему ястребу столб нужен! Другие, когда сяду на пеньке, улетают — близко же, совсем рядом! — а этот не боится. Привык.
— Что его жалеть, ястреба…
— Чем тебе ястреб плох?
— Цыплят ворует.
— Подумаешь, одного цыпленка за лето унесет! На то он и ястреб! Мы с ним, можно сказать, родня: ястреб чуть зазевается, его подстрелят; мне тоже ухо остро держать приходится… — И тут же, позабыв о своей печали, сказал: — Напрасно трактор за восемь километров гонял. За это с тебя спросят.
— Мелочь, — сказал Ганя.
— Из мелочи складывается большое, — как о чем-то хорошо проверенном заметил Иван и, не спрашивая разрешения, первым полез в кабину трактора.
Из кабины Ганя увидел Марью, хлопотавшую по хозяйству, и догадался, что Иван ничего не сказал ей. «Молодец дядька Иван, правильно делает! Зачем разводить панику раньше времени?!»
Кренясь на косогорах, ныряя носом в ямки с желтой водой, вздрагивая на высоких корнях сосен и лиственниц, «С-80», срезая себе путь, захлебывался ревом, как будто хотел скорее вырваться из сумрачных объятий тайги к Шангине, где больше простора и ровнее дороги.
Без счету раз Иван шел с заимки в деревню, ехал на коне, на машине и на тракторе, но как только оказывался у последнего поворота перед Шангиной, всегда его охватывало радостное волнение. Казалось бы, какая сегодня радость, а все равно охватило волнение точно такое же, как раньше. И отодвинулась обида на людей, печаль как будто уменьшилась, и ему хотелось только одного — поскорее оказаться в деревне.
Шангина мелькнула за соснами, проехали место, где раньше была электростанция… Иван подсчитал свои возможности: первая надежда само собой на Михаила Александровича, но перед этим Иван должен поговорить с шангинским бригадиром, который, как и его старший брат, председатель сельсовета, всегда хорошо относился к Ивану.
Бригадира он нашел дома. Все были на работе, и Василий сам себе налаживал на стол: достал из печи большой чугун, потом маленький, принес из кладовки соленых алятских карасей, коротко бросил Ивану:
— Садись.
Иван отказался.
Василий хоть и молодой, а строже Ильи — редко когда засмеется, и от этого непонятно, сердится он за что или нет. Но сегодня у Василия глаза вроде бы веселые. Да и не верится Ивану, что вот так все разом кончится. Была заимка, и вдруг ее не будет!
Жарковато показалось Ивану в избе, и он, не говоря ни слова, путаясь в длинных занавесках, выбрался из комнат и расположился в тени на предамбарнике.
И Василий, оказывается, любил здесь сидеть.
Иван не задавал никаких вопросов, ждал, что скажет Василий. Тот видел, что настроение у Ивана хуже некуда, и как можно веселее сказал:
— Ну что, Иван Захарович, и до тебя очередь дошла?
— Раз шутишь, значит, еще не дошла.
— Целый час спорил с председателем! — похвалился Василий.
— Отстоял меня?
— Как будто отстоял. «Пашите, — говорит, — и бугор и поляну! Сегодня же!»
Иван слушал внимательно, взвешивая каждое слово Василия, стараясь понять, где он может прибавить, а где — нет, а тут не выдержал, впился в него взглядом синих, холодно заблестевших глаз и хрипловато спросил:
— Что ты ему ответил?
— Я ему отвечаю: «Мы к Ивану привыкли!»
Иван поморщился — был недоволен ответом бригадира, — но перебивать не стал.
Василий с увлечением продолжал рассказывать:
— «Кто это «мы»?» — спрашивает у меня председатель. «Мы, — говорю, — шангинские». Он на мои слова ноль внимания. «Может, — говорит, — шангинские и привыкли, а бабагаевские — нет». — «Да его, — говорю, — бабагаевские толком и не знают! Нашли кому завидовать!» Он посмотрел на меня и говорит: «Не тех, кого надо, защищаешь». — «У меня, — говорю, — защиты больше никто не просит». Знаешь, что он ответил? «Не нравятся мне разговоры об Иване». Ну, я тогда помягче: «Георгий Алексеевич, пусть живет человек». А он свое: «Никто его со света сживать не собирается, я его только кругом опашу». — «Не надо, — говорю, — пусть он на свою поляну смотрит. Жалко, что ли?» — «Очень ты, — говорит, — добрый». «Что ж, — говорю, — раз вы все знаете, то пашите. Доживал бы человек спокойно, а так…» Он заинтересовался: «Что так?» — «А то, — говорю, — что всю жизнь человеку поломаем. А много ли у него ее осталось?» Он походил по кабинету: «А что, Василий Иннокентьевич, правильно будет, если мы его не тронем?» — «Конечно, — говорю, — правильно!»
Читать дальше
![Евгений Суворов Голос [сборник] обложка книги](/books/388366/evgenij-suvorov-golos-sbornik-cover.webp)





![Дина Рубина - Единственный голос [сборник litres]](/books/400062/dina-rubina-edinstvennyj-golos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Евгений Рудашевский - Голос крови [litres]](/books/410352/evgenij-rudashevskij-golos-krovi-litres-thumb.webp)