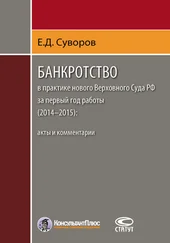Еще давно с дедом мы едва продирались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину располосуешь. А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропинкой береза да спиленный кондач, и над самой Инкой забелела длинная поленница дров.
Дед сердито мотнул рукой:
— Герасименок, лесу ему не хватило… Коршук, и только, — распекался дед. — До заимки руби — не вырубишь, так сюда залез, волчиные глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и все… А это что: столько прута срезано и брошено, столько охапок лежит с позатого лета, коню не увезти. Ну, на что ему?! Чтоб вас… Ну, подожди.
Дед больше не мог говорить и молчал и, лишь спотыкаясь на свежих пеньках и корягах, готов был плюнуть, но только и мог, что обзывал кого-то коршуками И вороньем.
Вот и лес-медуница. Дед остановился возле поломанного, изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку.
Дед растерянно поглядел на меня, опустился на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом, одними губами выговорил:
— Иди-иди. Смотри, я не пойду.
От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, еще давно вырубил молодой лес на частокол и жерди, кому-то понадобились и деревья потолще — и половина из них была подрублена.
Росы-медуницы нигде не было.
Я вернулся к деду, сел на колодину. Дед встрепенулся, подсел поближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:
— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — Забанка тут ходит… Только раз видел — годов пять тому будет: молоньей залетел на ту вон лесину. И чего это такое: в доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь, — инженер к нам, хлюст раскакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая затевается… Камень бы вроде нашли. А по мне, век бы его не было. И что вытворяют: до Мильгитуя порубку… А такого красавца строевика и к Загорью не будет. Лес-то новый, не вошел в силу. Вырубят — и помру, — тихо сказал дед. — А инженера-прихвостня… в болоте. Вот те крест, не забоюсь. Натерпелся коршуков, хоть одного…
Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я в другую. Старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в клюквенном болоте.
Посвящается Александру Вампилову
По деревенской дороге идут двое.
Дорога из тропинок взбирается на гору, падает вниз, и деревня Артуха, куда идут двое, только покажется крышами домов и снова исчезает.
Перед деревней увидели старую, на изгнивших столбах арку, на которой болтались остатки еловых веток, кусочек когда-то выкрашенной в красный цвет рамки удерживался на проволоке; вверху одного столба тесовые доски оборвались, в пустых ходах арки воробьи свили себе гнезда.
Из-за реки по бревенчатому настилу двигалось стадо коров, позади, в лесу, слышались неистовые крики, частые и резкие удары бича. Казалось, пастухи кричат и хлопают бичами на одном месте. Наконец стадо вышло из лесу, подняло пыль, рев, деревня ожила и задвигалась. На улицу стали выбегать бабы и девки загонять коров.
Разноголосый шум, скрипы ворот, удары калиток смолкли, запахло парным молоком и пережеванной травой, сильней задымили летние печки и огни, разложенные на земле в оградах и у колодцев.
Уже недолго оставалось до темноты, и двое поспешили. Спустились в низину, разделявшую деревню. Здесь даже в сильную жару грязь не высыхала и пройти можно было по прерывистой дорожке, прижимаясь к изгороди. Они перешли, переглянулись и рассмеялись, неизвестно отчего. Может, оттого, что их коснулись волны теплого, но уже осеннего воздуха, чистый закат, голоса на реке…
Мягко ударяются в траву сосновые чурки, катятся на дорогу. Женщина и мальчик бросают пилить, приглядываются к двум незнакомым. Когда один из них — тот, что немного постарше и посветлее, — спросил, где живет дядя Константин, женщина подошла ближе и сказала:
— А вы пришли! Дом с баней… Вы родня Константину?
Она вытерла ладонью нос, лоб и щеки, прибрала волосы, выбившиеся из-под белого тоненького платочка, и стала спрашивать дальше:
— Сашка, что ли… Я и подумала. А меня забыл?
— Тетка Марфа…
— Марфа, Марфа, — засмеялась она. — Помнишь. Ну иди, Константин в доме.
Дядя Константин, огромного роста, с крупными правильными чертами лица, с белыми подстриженными усами, в клетчатой, не по летам яркой рубашке, стоял посреди двора. Он бросил на груду свежих березовых щепок обрывок веревки, улыбнулся и пошел навстречу молодым людям.
Читать дальше
![Евгений Суворов Голос [сборник] обложка книги](/books/388366/evgenij-suvorov-golos-sbornik-cover.webp)





![Дина Рубина - Единственный голос [сборник litres]](/books/400062/dina-rubina-edinstvennyj-golos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Евгений Рудашевский - Голос крови [litres]](/books/410352/evgenij-rudashevskij-golos-krovi-litres-thumb.webp)