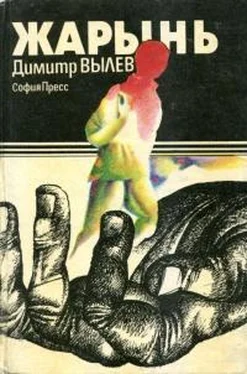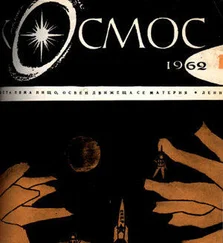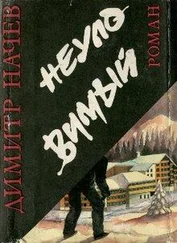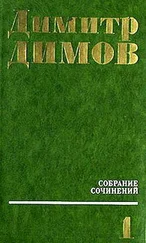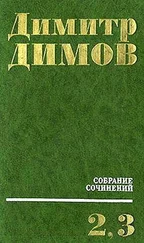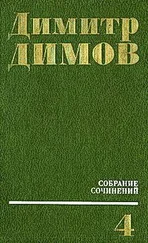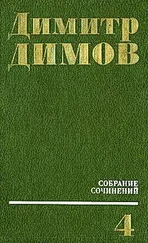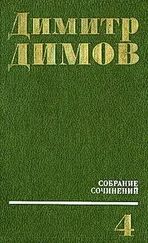— Самострел, подпишите протокол, — сказал следователь и подал Керанову и Маджурину формуляр с рядами оскорбительно красивых и ровных строчек.
Следователь поскрипел ботинками по доскам пола, источающим удушливую вонь мастики. Потом уронил в стоячий воздух с холодным бездушием чиновника:
— Придется задержать. Предъявляю обвинение в провокаторских действиях.
Андон бросил на чиновника беглый взгляд — без мольбы, без страха; потом с безразличием посмотрел в окно, — ему было все равно, поощрят его или накажут. Но тут же нос его побелел, и Керанов понял: быть беде. Он знал, что Андон не провокатор, парень престо хотел ценой своей крови разжечь ненависть в людях.
Арестованных освободили. В тот же день Трепло погрузил пожитки в кабриолет и переехал с женой в село Тополка. Йордана не простилась ни с домом, ни с сыном, Никола Керанов взял Андона к себе. Начал готовить его в Сельскохозяйственную академию. Каждый день Керанов сталкивался все с тем же упорством фанатика, который к тому же не был уверен, что совершил героический поступок. Андон ждал, что сельчане после его выстрела гурьбой повалят в кооператив. Однако они не только не оценили его жертву, но и стали избегать его. Лицо его запылало злым огнем. Керанов подумал, что если парнем овладеет гордыня, то, значит, или героизм его порочен еще в зародыше, или самоотверженность — ничтожна. Он решил остудить парня и как-то ночью, подняв глаза от учебника по зоологии, спросил:
— Ты знаешь, что твой отец на черном рынке спекулировал?
Андон, словно его невзначай стегнули прутом по лицу, сник. В ночной темноте на селе заливались лаем собаки. Керанов было дрогнул, но тут же подумал: «Если мы не можем прямо смотреть в глаза самим себе, значит, мы или еще не доросли до цивилизации, или собираемся проститься с ней. Только дети скрывают свои грехи».
Юный муж, как это бывает в минуты опасности, — к сожалению, редко, — понял, что потеря власти, добра, здоровья имеет весьма скромную цену по сравнению с гибелью личности. Одно только мгновение летней ночи показалось ему таким бесконечным и дорогим — молчание домов, сон сельчан, шепот влажных садов, — что он с криком упал на колени в свете керосиновой лампы:
— Защитите меня!
Никола Керанов в тревоге закрыл окно, чтобы не пугать людей, увидел в неярком свете лампы на полу Андона — жалкого, съежившегося, каким он запомнился ему у герделских скирд. Керанов тихо заговорил:
— Не страдай, парень, отец твой искупил свои грехи. Его могила честна.
Андон весь в слезах выскочил в окно, в темноту, оставив после себя дух сиротского одиночества. Керанов, не на шутку испуганный, что человек, которого он заставил пролить мужские слезы, никогда ему этого не простит, с облегчением перевел дух, когда Андон вернулся в дом с тем стеснительным восторгом, который не требует отплаты. «Вот одна из самых главных наших высот, которой мы, ослепленные будничной суетой, часто не видим. С ней можно все потерять, зато найти себя», — подумал Керанов.
— Бате Никола, я прошу вас и Маджурина: дайте мне десять дней. Я покажу, что достоин своего отца, — сказал Андон.
— Идет, — согласился Керанов.
Рассвело. Никола Керанов и Христо Маджурин оседлали коней и поехали в Михов район.
«Через три дня после отъезда Керанова и Маджурина в Михов район село Яница разбудили крики; они доносились из подвала совета», — отметил в своей хронике старичок Оклов.
А несколько часов спустя глухонемой Таралинго, Куцое Трепло и Сивый Йорги, гонимые «желтой лихорадкой», разбежались по югу. Таралинго на общинном жеребце умчался глубокой долиной по следам бабы Карталки, Отчева, Налбантова и Булкина и исчез за Светиилийскими холмами. Трепло сел в повозку и потащился по каменистому району Искидяр расспрашивать, верно ли, что Александр Македонский — законный сын своего отца Филиппа. Сивый Йорги выкопал во дворе землянку и отправился на поиски арматурного железа для крыши. Пока молва о «желтой лихорадке» достигла до ушей Керанова и Маджурина, прошло три дня.
В подвале общины три человека выли слишком душераздирательно и потому не по-взаправдашнему. Они верещали день и ночь, время от времени умолкая, и тогда из подвала выходил Андон Кехайов в галифе, сапогах и картузе, с плетью в руках и сигаретой во рту. Сельчане, толпившиеся вокруг совета, сунув руки в карманы, хмуро смотрели из-под картузов. Старичок Оклов торчал на балконе совета. Твердая английская шляпа ерзала на его седой голове.
Читать дальше