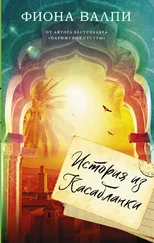Элиан оставила его в тишине капеллы, сидящего в луче солнечного света, который падал сквозь ромбики окна над статуей Христа. Этот луч осветил пыльники, танцующие вокруг головы графа, и его руки, свободно сложенные на коленях. Мягко закрыв за собой дверь, она снова услышала невнятное бормотание по ту сторону толстых стен.
Завтра она будет готова опять выйти на свою прогулку. После того первого раза она уже делала это не раз, хоть и не слишком часто. Иногда направление и количество кругов менялись, но она никогда не знала, что сообщает и кому. Но она надеялась, что – вместе с полуденными молитвами графа – эти сообщения, которые она отправляет за тридевять земель, каким-то образом смогут принести перемены.
Сегодня утром мы с Карен убираемся в капелле. Воздух под летним солнцем очень разогрелся, так что мы с облегчением заходим в прохладную полутьму. Мы подметаем каменные плиты, собирая в совки мусор с прошлой свадьбы: засушенные розовые лепестки, которая Сара предлагает вместо конфетти; пару брошенных листов с порядком церемонии; пыль от множества ног в новых туфлях, купленных специально для этого случая. Отполированное дерево скамеек сияет под лучами, просачивающимися сквозь витражные окна со свинцовой оправой.
Мы вместе расправляем выстиранную льняную скатерть и расстилаем ее на небольшом алтаре перед статуей Христа. Карен вращает запястьем (оно у нее иногда еще немного напряжено, хотя зажило очень хорошо), а потом смотрит на мою руку. Я замечаю это и делаю вид, что расправляю несуществующую складку на скатерти, чтобы скрыть смущение. Из-за жары мне пришлось в кои-то веки отказаться от своих обычных рубашек с длинными рукавами. Я знаю, что видок еще тот. При переломе кости разломились на мелкие осколки, прорвав кожу. От стержней, которыми их скрепляли, рубцов стало еще больше, так что кожа у меня на руке бугристая и деформированная. Шрамы жесткими белыми полосами выделяются на фоне легкого загара, который я приобрела, сидя на берегу реки в купальнике.
Карен пристально и прямо смотрит на меня.
– Я тут, значит, жалею себя, потому что у меня немного побаливает запястье. А тебе, должно быть, было гораздо больнее.
Я пожимаю плечами, стараясь не вспоминать. Стараясь вымарать образы, без спроса возникающие у меня в голове.
– Да, пожалуй. Но это было давно. Сейчас все почти зажило.
Она испытующе смотрит на меня с минуту.
– Знаешь, Аби, ты хорошо справляешься. Я на своем веку повидала, как немало людей приходят и уходят, и ты – одна из хороших.
Я не уверена, имеет ли она в виду работу, которую я выполняю в шато, или говорит о чем-то другом, но от ее грубоватой доброты у меня на глаза наворачиваются слезы. Я опускаю голову и наклоняюсь поднять совок и щетку, чтобы взять себя в руки. Снаружи слышится звук косилки Жан-Марка, сначала громко, потом тише. Он, наверное, везет ее в сарай по пути на обед.
Когда я выпрямляюсь, Карен все еще оценивающе на меня смотрит, а потом с ухмылкой говорит:
– И, полагаю, я здесь – не единственная, кто так думает.
Когда мы выходим из капеллы, я мгновение медлю перед тем, как снова ступить на палящее полуденное солнце, и думаю о графе, проводившем здесь послеобеденные часы. И в этот момент, в тихой полутьме капеллы я словно бы слышу тихий шепот голосов, передающих послания из прошлого.
На рынке в Кульяке быстро прошла молва о том, что появился свежий мед. С продуктами теперь были серьезные перебои, несмотря на введение строгой карточной системы. Сахар стал одним из самых ценных товаров и одним из самых дефицитных, так что перед прилавком Франсин и Элиан быстро выросла очередь.
Люди смирились, что теперь за всем нужно стоять в очередях: в мэрии за разрешениями на проезд и талонами на бензин; в пекарне, чтобы получить все убывающую суточную порцию хлеба, а в лавке мясника жалкий кусок конины, и на пропускных пунктах, выросших на дорогах там, где раньше они могли свободно ходить по своим делам.
Люди разнообразили свои пайки как могли тем, что удавалось добыть: иногда речной рыбой; зеленью – одуванчиками, звездчаткой и валерианеллой, а когда кончались запасы пшеницы, как часто бывало в последнее время, Гюстав и Ив мололи каштаны в грубую муку, из которой можно было испечь тяжелые буханки желтого хлеба, камнем ложившегося в желудок. Но никто не жаловался. После зимы, когда выживали в основном на репе и топинамбуре, все радовались относительному изобилию и разнообразию, пришедшему с весной и ранним летом. Твердый каштановый хлеб заполнял пустой желудок. Ну а с медом – с ним даже заплесневелая горбушка хлеба превратится в лакомство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Фиона Валпи Девушка в красном платке [litres] обложка книги](/books/388016/fiona-valpi-devushka-v-krasnom-platke-litres-cover.webp)



![Кристина Генри - Девушка в красном [litres]](/books/390948/kristina-genri-devushka-v-krasnom-litres-thumb.webp)
![Фиона Валпи - Парижские сестры [litres]](/books/392925/fiona-valpi-parizhskie-sestry-litres-thumb.webp)