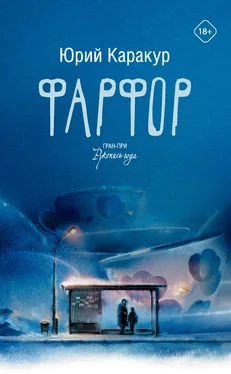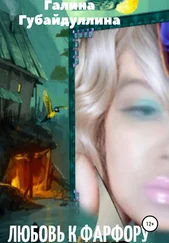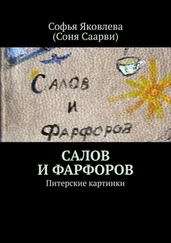Мы идём дальше, Тамара устала, задохнулась, и сердце заворочалось, как будто его разбудили. Тамара вспоминает, что в груди у неё вредное, ненадёжное сердце, прошлой зимой она после инфаркта лежала в больнице (спирт, ватка) и, когда чуть окрепла, подолгу, опершись на подоконник, смотрела на больничный двор, на инфекционное отделение, и грязные серые декабрьские фургончики скорой помощи мёрзли, но, вдруг задёргавшись, уезжали, и по тропинке, преодолевшей сугроб, проходили цветные береты или норковые шапки. А ранним вечером, когда санитарка разносила звонкий кефир в стаканах, всё в палате становилось серое, неприятное, но свет включали как-то не сразу, как будто воспитывали больных, и уборщица мыла полы с хлоркой в остро-ярком жёлтом коридоре, что-то там советовал врач, вар… что-то, мелкие такие таблеточки. И даже аптека с синими камушками в витрине вспомнилась Тамаре, пристройка торчит из общежития, и фармацевт Нина с прижатой шапочкой химией. Надо бы (Тамара постаралась поглубже вздохнуть, но сердце ударило в стенку, как разозлённый сосед, которому мешают) вырастить мяту, она, говорят, полезна для сердечников, и вот даже два глиняных коричневых горшка показались Тамаре – на балконе, мокрые после дождя. Что-то неуловимое изменилось, будто тропинка вздохнула полной грудью и потянулась увереннее, и Тамара отрывает взгляд от земли и видит, как разбавляется лес, вдруг через него показывается сиреневое небо, и уже не огромный лес, а тонкая сеточка перед нами. Поле, поле, предчувствуем мы, и уже готовы увидеть его впереди, и взгляд, разогнавшись, взлетает, и Тамара говорит:
– Блядь! Клязьма!
Я выглядываю из-за Тамариной попы.
– Погляди-ка, Клязьма… – повторяет Тамара, смягчаясь.
Лес обрезали, он взвизгнул резким спуском (в дырках – ласточки), а внизу – спокойная медленная река лениво отражает небо. Глаза наши от непривычки удивляются, что можно смотреть так далеко, без перечёркиваний. Конечно, река значит только одно: мы вышли не туда и нужно возвращаться в лес. Но когда так высоко стоишь и так далеко видно, хочется стоять и смотреть, и чувствуется в этом какая-то отгадка. И мы с Тамарой стоим и смотрим. Розово-жёлтое небо, надвигается синее, в воде всё дрожит и слегка изгибается.
Но отгадки не найти, и даже больше мучаешься – что там, что там дальше, за горизонтом? Мне кажется, что всё-таки можно дойти и заглянуть. Я представляю там Киров, а в Кирове трубы незнакомого завода, которые видны из окна кировской квартиры, или старый ржавый трамплин для лыжников над речкой (говнотечкой – добавляется всегда само собой), с трамплина зимой можно съехать и подпрыгнуть высокооо и увидеть всё размашистое, картографическое Предуралье. Тысяча километров, двенадцать часов – и это на фирменном поезде, а пассажирский едет бесконечно, перекур на каждой станции, возьмите вот малину, клубнику, огурцы, даже чеснок со своей грядки. И я уже вспоминаю билетную кассу, гранитный прохладный вокзал, уже отодвигаю занавеску, чтобы смотреть из окна поезда, уже иду шатаясь по вагону – за кипятком – как будто волна раскачивает, но не бросает меня. А Тамара привычным прыжком (как над всякой рекой) прыгает к Вовчику, в деревянную молодёжную лодку, удар воды о бортик, упругое сопротивление реки, которое запомнилось навсегда. Он (мама говорила: «Твой Вовчик!») держит красивыми руками вёсла (грязные ногти), она в глупом (глупеньком) платье, волосы увязаны в кренделя, хохочет как дура (дурочка). «Поедем к реке?» – спросил Вовчик. Ну пусть так спросил Вовчик, некому проверить. Хорошо, пусть не кренделя, а длинные распущенные волосы. Она, конечно, соглашается до сих пор: давай поедем. Вовчик, а если расправить имя, то Володя, был высокий, худой и поэтому ломкий, как будто вот-вот разбегутся трещинки от позвоночника, и он развалится на куски, и она поехала к реке. Володя – так особенно красиво, но и тяжело, даже сейчас, на Володю надо было ещё решиться, и она, наверное, решилась всего пару раз. И Володя грёб (неприличный глагол), наклонялся к ней, нависал над нею (неприлично, неприлично!) и с силой толкал воду, и солнце висело красное, а она отворачивалась, ей казалось, что это так красиво – грустить перед ним, вот мой грустный профиль, смотри какой. Но он как-то резко и даже разочарованно смотрел на берег, казалось, он устал и злится, и Тамара вдруг почувствовала, что совсем, совсем не знает его, и при каждом его движении из-под рукава показывалась большая подживающая ссадина, и откуда эта ссадина у него на руке? Ей обидно было, что она не знает, обидно, что у него своя, незнакомая ей жизнь, и хотелось как-то обидеть его или посмеяться над ним. И тогда она, безо всякого грустного профиля, а просто смотрела на реку, и река что-то хранила на глубине и с таким значением отражала небо, что Тамара думала, что же дальше? и хотелось домой. Тамара не может припомнить лицо Вовчика, он всё время как будто против солнца. А я не могу представить поездки дальше Мурома, потому что после него я обычно засыпаю (ночной поезд, темнота).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу