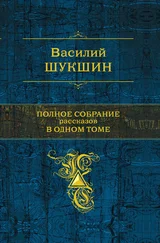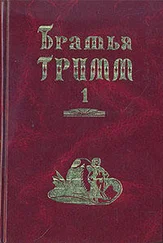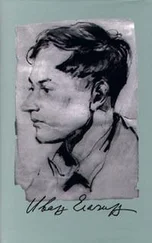Присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет… Например… Городская львица, и, взявши одну из них, такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками, — и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом, — личный портрет во всех подробностях. Потом… Непонятная женщина… Городская добродетельная женщина… Честный взяточник… Губернский лев. Словом, всякого такого, который вам покажется типом.
(Гоголь — Смирновой)
Именно так он сам и поступал — описывал не человека, а тип со всеми его ухватками.
Как, например, представляет нам Гоголь Петра Петровича Петуха — типичного толстого деятельного помещика? Через действия. Петух ловит рыбу, участвует в приготовлении еды, ест. спит и храпит.
Даже его сообщение о том, что имение заложено, звучит фальшиво. Гоголевский герой не имеет права выходить из роли кулебяки. Не внутритекстовая необходимость заставила Петуха заговорить иначе, а предвзятость автора, проповедника и учителя жизни, задумавшего предупредить незадачливых читателей о вреде театров (ревизоров, игроков и женитьб): промотает все, да и детей сделает мотишками… как просветятся там у ресторанов да по театрам — все пойдет к черту…
Колоритная фигура — Петух? Да. Смешная. Немного жалкая. Не потому, что его имение заложено, а сыновья — будут, возможно, дрянными людьми. Петуха жалко, потому что он — не человек, а монстр, сотворенный профессором Гоголем-Франкенштейном, оживленный литературным талантом автора шар мяса, позаимствованного от различных мертвых и не мертвых тел. Нечто вроде круглого желудка или колобка в человеческий рост.
Как лубковый мастер, — не читал романа Рабле, а только срисовал картинку — и превратил Гаргантюа и Пантагрюэля в «славных опивал и объедал», так и Гоголь, наблюдая жизнь из брички или из окна римской квартиры, услышал анекдот, вспомнил характерную типичную фигуру и вывел в своей прозе вместо человека — лубочного героя.
Гоголя вдохновляла не действительность, не идеи и представления, а талант опнсывателя всяческой живности. Которая, несмотря на всю смачность, жирность и натуральность все-таки не жизнь, а животность.
Гоголь в своих описаниях гораздо ближе к Губенсу, чем к своему любимцу Гафаэлю. К Рубенсу с украинским акцентом, разумеется.
Вроде бы, ничего плохого в таком, одностороннем, — фламандско-лубковом способе представления людей нет — многие сатирики поступали точно так же.
Проблема заключается в том, что герой анекдота или — тип не только не может обладать сложным внутренним миром, психикой, но и не может изменяться во времени, он — жертва своей типичности. Своих атрибутов. Если он выйдет из узкого пространства анекдота в жизнь, он и анекдот разрушит и типичность.
Петух должен выступить, сорвать аплодисмент читателя, и исчезнуть. Невозможно катить этот шарик дальше. А Гоголь-демиург хотел катать свои куколки до того, пока они в бабочек не превратятся.
В поэме Гоголя есть только один живой герой, сопровождающий читателя на всем пути. Это сам автор, потчующий сентиментальных читателей лирическими отступлениями. Все остальные — карикатуры, фламандские мужики, лубки.
Даже Павел Иванович Чичиков — хоть и тянет повествование. как коренник в тройке, но он не живой человек, а тип. Подлец-добытчик. Внутри действия поэмы он не меняется — каким был, таким и остался, пробудить его к высшей жизни Гоголю не удалось.
Рассказчик же поэмы — эволюционирует вместе с автором. Самую интересную возможность прозы — построение рассказчика — Гоголь вовсе не использовал, рассказывал просто, от себя…
За пасечником он прятался.
В «Петербургских повестях» рассказчик — светский молодой человек, этакий шуткун, с Пушкиным на дружеской ноге…
В «Мертвых душах» рассказчик одновременно — писатель и проповедник. Эти двое в одной бричке далеко уехать не смогли.
В «Выбранных местах» Гоголь возлагает на себя ответственность за гадости своих героев:
Во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке… Необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их своим героям… С тех пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью.
Гоголь совершал операцию, в математике зовущуюся инверсией, — проектировал свой внутренний мир на мир внешний, заселял литературный макрокосм обитателями своего микрокосма — персонификациями своих грехов. И, как мы узнаем из его писем, грехами знакомых и приятелей. А потом приставлял, как незабвенная Агафья Тихоновна, губы Никанора Ивановича к носу Ивана Кузьмича, прибавлял развязности Бальтазара Бальтазарыча и дородности Ивана Павловича.
Читать дальше
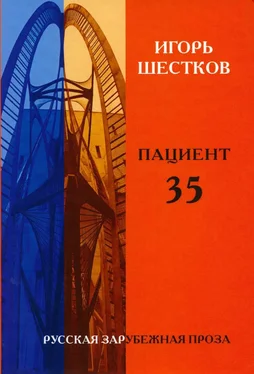
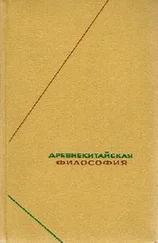
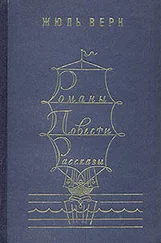

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)