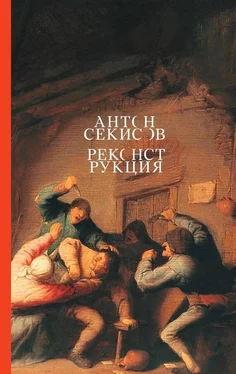Я хотел было броситься под единственный козырёк, который и так был забит людьми, когда передо мной остановился автомобиль. Дождь избивал его крышу. Из машины посигналили несколько раз. Приглядевшись, я заметил на дверце белого ангела. Это была машина Абрамова.
* * *
Я сидел за столом, укрытый однотонным бежевым пледом, и шевелил пальцами ног в меховых тапках. Выпив пол-литра чая, я теперь дожидался кофе, который должна была принести секретарша Ира.
На первый взгляд офис Абрамова ничем не напоминал о смерти. Светло-серые стены, светло-серые жалюзи, кулер и мониторы, и белые придвинутые друг к другу столы. У маленьких окон горшки с ярко-оранжевыми цветами. Но когда дверь в кабинет открылась, выпуская Иру, я заметил ангела за её спиной. Это был хищный ангел с твёрдым, как из слоновой кости, лицом без глаз. Зато с длиннющим и острым носом. Его тончайшие руки были вздёрнуты, а пальцы разведены так, будто эта нелепо сложенная кукла сама, как кукловод, дёргает всех вокруг за нитки.
Ангел подпирал собой широкий стеклянный шкаф с однообразной одеждой. Квадратики белых рубашек, завёрнутых в целлофан, пиджаки на крючках, лёгкие туфли. Это был обыкновенный набор вещей, как будто офисных, и всё же сразу было понятно, что для живых такие не делают.
Ира грубо поставила кофе, пролив несколько капель на блюдце.
— Кофе страшно вкусный, — предупредил Абрамов. — Из-за воды.
Для меня было достаточно, что он был горяч. Это делало любой кофе идеальным.
— Мы поставили новый фильтр, французский. Стоит в пять раз дороже нашего, но оправдывает каждую копейку, да, Ириша?
— Каждую, Илья Иванович, — сказала девушка.
— Я тебе нос откушу, Ириша, — пообещал Абрамов.
— За что-о-о? — удивлённо подняв бровь, спросила секретарша с ужасно не шедшим ей манерничаньем. Лицо у неё было бледное, чуть отёчное, волосы забраны, на ногах толстые непроницаемые чулки.
Странные игры были у Абрамова с секретаршей. Возможно, просто интрижка, а может и нет. В любом случае от их диалога сделалось не по себе, захотелось встать и уйти, но ещё больше хотелось пить и не быть на улице.
Никак не получалось согреться, а вот Абрамову было так жарко, что он даже снял пиджак, обнажив пухлые плечи. Захотелось опять посмотреть на жуткого ангела, но дверь была заперта. Я взял со стола буклет, и океан гробов на любой вкус и цвет разлился на каждой странице. Этих страниц было больше ста. Коричневые, белые, рыжие и даже сиреневые. Я всё листал, надеясь найти гробы в форме гоночных машин.
Секретарша не уходила, стояла и с вызовом глядела на меня как на громоздкий советский гарнитур, доставшийся от свекрови. Ветер поднимал занавески и вносил кисловато-сырой запах улицы. За окном носились предметы из опрокинутой мусорки, пытался прорваться сквозь дождь одинокий человек без головного убора, но ноги его подгибались, а сломанный зонт метался во все стороны.
Когда мы наконец остались одни, и секретарша прикрыла за собой раздвижную непрозрачную дверь в супермаркет для мёртвых, я понял, как сильно устал, как слаб и всё ещё сильно отравлен Майей. Даже такой страшный дождь, от которого кожа может полопаться как пузыри на упаковочной плёнке, ненадолго переключает внимание.
— Выглядишь плохо, Саша. Может, из-за настойки?
— Это настойка бабушки.
— Двести лет не было в Москве такого дождя. Пишут, что это ветхозаветный потоп, — сказал Абрамов, смотря в стену так, будто в ней было окно. Но окна не было. На серо-белой стене с трудом можно было заметить лишь волнистые разводы.
Абрамов погладил голову, его тонкие губы слегка искривились в ухмылке. Стало ясно, что он собирается рассказать историю. В таких случаях Абрамова ничто не могло остановить. Даже если бы ему сообщили что-то кошмарное, что, например, произошёл самый масштабный теракт в истории человечества, он бы, конечно, не стал её озвучивать, но по его глазам и усмешке было бы видно, что он повторяет историю про себя.
— Вчера забирали бабку, — начал Абрамов, и его глаза стали ласковыми и мечтательными. — А она сутки одна лежала, вот и клопы завелись. И Глеб, есть у меня один новенький, её брать отказывается, говорит — не возьму, у ней клопы. А второй парень мой, Гриша, он говорит ему, мудак, как я понесу один? И я ему говорю, Глеб, ты чё, совсем что ли? Это... — тут он крепко задумался, пытаясь вспомнить свою реплику. — Это вопиющий непрофессионализм. А он упёрся, бывают такие люди, не понесу, и всё — как маленький, — мне зачем с мертвеца блохи, говорит. Как будто у мертвеца они особенные. Кругом косность, наивность, суеверия — даже в той среде, где смерть — это просто быт. Ну и Гриша его убеждает — да какие блохи, нет там никаких блох. А Глеб выдаёт, внезапно так — а кто меня укусил тогда? Бабка? Ну и тычет в лицо всем свой укус. И скорбящим тоже в лицо тычет. За такое, конечно, нужно увольнять сразу. Но кто гроб понесёт тогда? Сам я нести не могу, спина ещё с детства сорвана. Короче, стоят, спорят, Гриша пока закурил, как-то неловко спичку выкинул, спичка упала в гроб — проходит какое-то время, бабка начинает дымиться, а они всё руками размахивают, уже драться готовы, у Гриши-то ещё нервы расшатаны из-за жены, ну и я сам не заметил, пока огонь не пошёл. Бабка горит, прикинь! Ну и там ещё скорбящие в дверях торчат, родственники — дочь, муж дочери. Дочь ревёт, мужик стоит, смотрит. Ну я схватил бутылку пятилитровую и стал тушить, огонь хорошо хоть быстро затух, так что сразу потом повезли её в крематорий.
Читать дальше